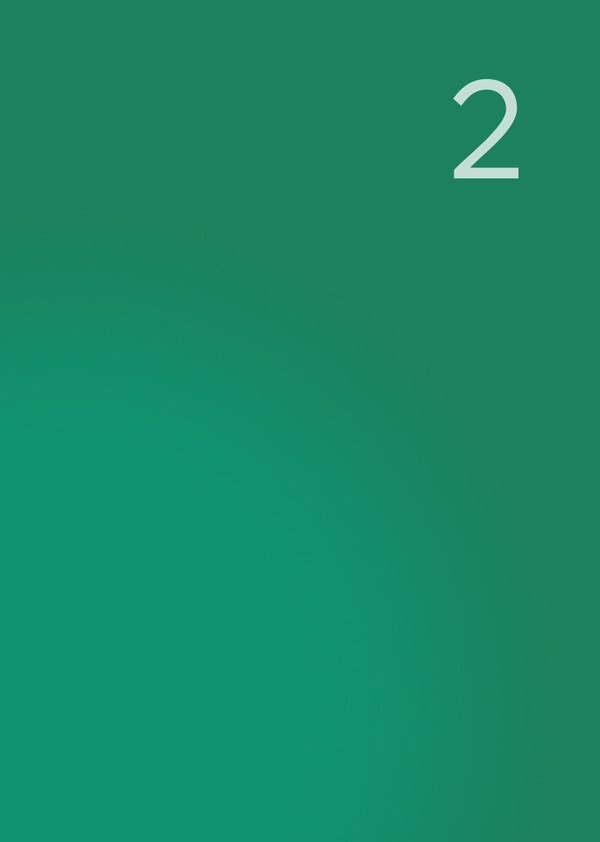
Семинар «Доступная мода как часть универсального дизайна»
Международные лидеры модной индустрии активно отвечают на запросы людей с разной мобильностью. Речь не только о тренде на удобную одежду. Крупнейшие модные дома уже давно шьют одежду для людей с разной телесностью. Кнопки и труднодоступные молнии заменяются на магниты и застежки-липучки, дизайн учитывает образ как черты и нюансы положения сидячего, так и стоящего человека, кастомизация становится путем к доступности и устойчивости. На обложках модных журналов чаще появляются модели с инвалидностью. Об отечественном контексте, модных вещах от бабушек и перспективах для культурных институций побеседуют участники семинара.
Анзор Канкулов — руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ
Мария Смирнова — куратор профиля «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, основатель фэшн-бренда INSHADE, художник, дизайнер
Вера Чекунова — руководитель проектов HSE Gift Lab Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ, автор и руководитель проекта Neo Mosaic
Наталья Малько — социальный предприниматель, основатель бренда адаптивной одежды be easy kid
Дарья Леднева — социальная предприниматель, основатель проекта «От Ба. Вязаные вещи от бабушек России»
Модератор: Мария Хвалибова — заместитель заведующего отделом образовательно-просветительских проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина
Насколько модная индустрия открыта для работы с людьми с инвалидностью, и как она функционирует в России сейчас?

Инклюзия в моде — это не только про инвалидность. Это шире: про размеры, расовую принадлежность, вообще все, что касается человека.
Если говорить об инклюзии в моде с точки зрения инвалидности, то для России это тема новая. В начале десятых годов про нее начали говорить в Британской школе дизайна. Нина Урусова делала проект «Безграницкая тюб» — на тот момент самое масштабное и красивое, что было связано с инклюзией в моде в этом контексте.
Рынка как такового сейчас у нас нет. Тогда начали слишком рано: ни индустрия, ни люди не были готовы. Это было очень красиво, но не получило продолжения. Сегодня остаются только ателье индивидуального пошива. Чаще всего это выглядит не как мода, а как ортопедическая одежда. Модных брендов в мейнстриме или масс-маркете у нас нет. Когда-то небольшой корнер был у Marks & Spencer. Это, кажется, в 2017 году, но он просуществовал всего несколько месяцев и закрылся. Спроса не было, люди не привыкли. У нас по-прежнему живет представление, что адаптивная одежда для людей с инвалидностью — это что-то ортопедическое и некрасивое.
В 2022 году в Россию заходил Tommy Hilfiger со своей адаптивной линией. Но уже в марте они ушли, и непонятно, были ли вообще продажи. Когда я ходила по магазинам Tommy Hilfiger, консультанты ничего не знали об этой линии, потому что она продавалась только онлайн. В том же 2022 году я была в США и ходила по магазинам в Нью-Йорке, которые называют себя инклюзивными брендами. Там ситуация оказалась похожей: при входе реклама с людьми с инвалидностью, но консультанты тоже ничего не знают, а коллекции доступны только онлайн.
В этом смысле, я так понимаю, важна просветительская работа, потому что без неё возникает информационная дыра, и люди не понимают, как к этому относиться.

Да, конечно. Если отталкиваться от самого большого рынка адаптивных товаров и модной инклюзии, то это, безусловно, США. Все крупные игроки там работают с инклюзией: Tommy Hilfiger, Amazon, Target — ключевые компании разных сегментов. Это касается и эконом-сегмента, и middle, и mid-lux, и премиум-сегмента. У них другое отношение к инклюзии, и именно оно формирует рынок с большим охватом. Зайдёшь в любой магазин, например, где продается все для Хэллоуина, и первой будет стоять реклама с человеком с синдромом Дауна. Всё диктуется крупными брендами.
У нас пока так не работает. С того момента, как я начала работать в 2019 году, я понимаю: я — ноунейм, про меня никто не знает. Когда приходишь к крупному бренду, они гуглят, что такое адаптивная одежда, видят что-то ортопедическое и не хотят коллаборации, потому что им важно поддерживать стильные тенденции и имидж. Такой товар нужно таргетировать, нужно искать клиента. Но бренды понимают: часть их лояльной аудитории может испугаться, если они начнут говорить про инвалидность и выпускать что-то для людей с инвалидностью.
У нас пока остаются нишевые бренды. Но, на мой взгляд, пока крупные игроки не обратят внимание на эту тему, ничего не изменится. Мы так и будем топтаться вокруг ортопедии и чего-то невнятного.
Поддерживают ли благотворительные фонды инициативу в области инклюзивной моды и адаптивной одежды?

У благотворительных фондов и так много разных задач. Они помогают своей целевой аудитории, и одежда для них — второстепенное, если не последнее по значимости направление. В первую очередь хочется помочь с диагнозом, вылечить человека, если он болен.
Пока существуют разовые проекты, которые не получают развития дальше аудитории самих благополучателей фонда. Адаптивная одежда по-прежнему не продается. Если посмотреть на поисковые запросы в Яндексе, то, условно, одежду для собак ищут около 30 тысяч раз в месяц, а одежду для людей с инвалидностью — около 600. При этом она ничем не отличается от обычной, кроме дополнительных функций. И пока не изменится восприятие, что адаптивная одежда — это такая же одежда, просто с нужными элементами, ситуация не сдвинется.
Как вы видите перспективы развития своего бренда и какие планы на будущее уже можете обозначить?

Сейчас все упирается в финансы. Для бренда адаптивной одежды маркетинг должен быть примерно в три раза сильнее, чем у обычного бренда. Аудитория у нас не такая большая, уровень доверия тоже низкий, поэтому требуется гораздо больше усилий. Я эту гипотезу пока не тестировала, потому что у меня просто нет средств проверить, сработает это или нет. Возможно, если вложить значительно больше в маркетинг, результат будет, но без софинансирования со стороны крупных брендов это не потянуть. У них есть отделы корпоративной социальной ответственности, которые могут поддерживать социальный бизнес. Нишевый бренд самостоятельно справиться не может. Например, публикация в глянцевом издании не дает результата: моя аудитория там просто не присутствует. Я даже не всегда понимаю, где именно искать свою аудиторию и какие медиа для нее авторитетны. Ситуация сложная, и выживают только самые сильные.
В 2022 году мне стало интересно, почему в Америке это работает, а у нас — нет. Я созванивалась с похожими брендами, но более крупными. Это был средний бизнес, в частности американский бренд детской одежды Appaman. В 2020 году его основательница запустила адаптивную линию для детей с инвалидностью. Когда мы говорили в 2022 году, она сказала: «Ты мне звонишь, а я как раз собираюсь закрывать эту линию, потому что не тяну ее финансово». Требуются большие расходы на маркетинг, специалистов, а само производство связано с постоянными экспериментами, что тоже стоит денег. Получается, что даже средний бизнес не справляется, а выживает в основном крупный.
В США адаптивные линии часто возникают из локальных инициатив. Так было, например, у Tommy Hilfiger. Один из сотрудников пришел с идеей, и сам основатель поддержал ее, потому что у него трое детей с аутизмом, и он понимал важность темы. Так же было у Target (аналог нашего «Ашана»): сотрудница рассказала, что не может найти одежду для своего ребенка с инвалидностью. Руководство решило попробовать, ссылаясь на успешный опыт Tommy Hilfiger, и проект был запущен. Но такие истории возможны только в крупном бизнесе, который может позволить себе подобные инициативы.
Было бы здорово, если бы у нас это тоже работало. Но у нас другое понимание инклюзии и другое отношение к инвалидности. Поэтому, на мой взгляд, единственный путь — это коллаборации.
Несмотря на все сложности, я надеюсь, что в этой сфере будет продвижение, и мы будем расти. Чем чаще мы об этом говорим, тем больше шансов, что нас услышат. Спасибо большое, Наталья.
Дарья, хотела бы задать вопрос вам: расскажите, пожалуйста, о своем проекте — с какими трудностями вы сталкиваетесь и что, наоборот, дается проще?

Проект называется «От Ба» — говорящее название. Мы создаем вязаные аксессуары. И о доступности я могу говорить не столько со стороны потребителя, сколько со стороны производителя: как сделать так, чтобы пожилые люди, живущие в отдаленных городах, регионах, деревнях, стали частью модного процесса, чтобы их изделия можно было продавать в больших сетях, известных магазинах, в столице и не только.
Началось все случайно — с моей бабушки. Постепенно к нам стали присоединяться новые участницы из разных городов. Сейчас бренду уже семь лет, в нем более 150 мастериц по всей России. Мы работаем как в рознице, так и с крупными брендами.
Сложностей было много. У меня не было опыта предпринимательства, знаний о бизнес-процессах. Это одна из главных проблем: не понимаешь, как выстраивать организацию, как объединять мастериц, управлять ими. С ростом бренда увеличивается и объем заказов, а пожилым людям бывает трудно справляться, поэтому все нужно тщательно курировать. Особенно когда речь идет о запросах от большого бизнеса — это наш основной заказчик. Именно за счет этих заказов бабушки получают доход. Есть и юридические сложности. Не всегда понятно, как правильно оформлять работу пожилых людей: ведь у них есть пенсия, а в законодательстве остаются пробелы. Кроме того, в некоторых регионах вообще нет поддержки социальных предпринимателей. Воронеж, откуда я и моя команда, как раз один из таких городов, где этому уделяется мало внимания.
Тем не менее у нас есть свои сильные стороны. Благодаря моему образованию в сфере PR мы хорошо справляемся с продвижением. В коммуникации, маркетинге, SMM у нас неплохие результаты. Благодаря этому нам удалось выйти с изделиями бабушек в ЦУМ, попасть на страницы Vogue, выиграть множество премий и поучаствовать в неделях моды. Казалось бы, где бабушки из деревни и где люксовые бренды. Но у нас есть участница 94 лет, которая до сих пор вяжет варежки, и ее изделия могут оказаться на полке крупного магазина или войти в коллаборацию с модным брендом. Это сложно представить, но за счет грамотной коммуникации и идеи нам удается это делать. У нас нет больших рекламных бюджетов, нет стороннего финансирования — все строится на личных вложениях и оборотных средствах.Благодаря силе идеи и правильному выстраиванию коммуникации люди откликаются, и проект работает.
Если вы можете показать идею понятно и наглядно, а не просто сказать, что где-то бабушка вяжет что-то неизвестное, то это вовлекает людей. Важно показать реальных героев и дать им слово. Нашим бабушкам часто дают интервью, к ним приезжают съёмочные группы, снимают их истории. Когда зритель видит реального человека где-то далеко, это вызывает сильный эмоциональный отклик. Так запускается сарафанное радио: люди хотят делиться этой историей и рассказывать другим.
Самая искренняя история всегда трогает больше всего, это правда. Если же говорить о коллаборациях, о которых вы уже упоминали, как вы оцениваете их результат? Какие из них за эти семь лет стали для вас самыми яркими и значимыми, Дарья?

Результат для нас — это деньги. Здесь все абсолютно ясно: сколько мы получаем, видно сразу. Но коллаборации дают и другие преимущества. Благодаря им нас узнает больше аудитории. Мы работаем в основном с крупными игроками на рынке и именно им отдаем предпочтение. Поступает много предложений от локальных брендов, но здесь мы более избирательны. А вот если обращаются крупные компании, мы всегда соглашаемся, потому что для нашего бренда важно наращивать аудиторию и заявлять о себе за счет сильного партнера.
Одна из самых ярких коллабораций — с футбольным клубом «Зенит». Сначала мы вязали шарфы для всей команды: они вышли в них на поле в День пожилых людей, 1 октября. На следующий день был матч в Санкт-Петербурге на ВТБ Арене, где тоже были представлены наши изделия. Затем мы продолжили это сотрудничество: шарфы продавались во флагманском магазине клуба в Петербурге. Для меня это одна из любимых коллабораций.
Еще был интересный проект с Яндексом, когда мы делали вязаные пледы. Они были в стиле пэчворк — разноцветные квадраты, связанные мастерицами из разных уголков страны. Все квадраты приезжали в Воронеж, где мы собирали их в единые пледы. Это был долгий и кропотливый процесс, непростой для нашей команды и для мастериц. Никто не знал, как правильно организовать работу, я сама в вязании ничего не понимала, поэтому многое было посчитано неправильно. Экономически проект оказался сомнительным, но авантюра есть авантюра. В итоге мы вышли на большую аудиторию, и в день запуска акции все пледы продались за 5 часов. Правда, потом пришлось закрывать кредит, потому что с расчетами у нас получилось туго.
Если говорить о коллаборациях в премиальном сегменте, то отмечу проект с брендом Rodina, чья продукция продается в ЦУМе. Линейки с платьями в русском стиле представлены как в России, так и зарубежом на модных показах. Дизайнер бренда Светлана Родина узнала о нас через соцсети и предложила создать совместную линейку аксессуаров. Мы согласились, и изделия продавались в ЦУМе в нашей фирменной упаковке.
Это был первый раз, когда я попала в ЦУМ — не как покупатель, а как продавец. Для меня это был особенный и важный момент.
Поблагодарим Дарью за вдохновляющие примеры.
Теперь хочу перейти с вопросами к Анзору Конкулову. Отмечаете ли вы среди студентов интерес к теме инклюзии и доступной моды? Что сегодня в этой области могут предложить учебные заведения тем, у кого есть запрос и желание развиваться в этой теме?

Смотрите, прежде чем двигаться дальше, хочу сказать: мы занимаемся дизайном и модой. И здесь, как верно отметила Наталья, с самого начала были обозначены все ключевые точки, которые существуют в этой сфере.
Глобальный тренд сегодня — принятие самых разных особенностей человека. То, что мы называем инклюзией. И мне кажется, что именно это направление должно становиться основой любой сферы деятельности, включая моду. Индустрия моды морально и идейно должна быть ориентирована на принятие и включение. В то же время пересечение моды и инклюзии — вопрос неочевидный и непростой. С одной стороны, бизнес строится на универсальности и массовом производстве. С другой — мы говорим о том, что человеку с особенностями важно выглядеть и одеваться так же, как и любому другому. И это принципиальный момент. Поэтому возникает разница между адаптивной одеждой и, условно, специальной профессиональной одеждой для определенных условий работы. Последняя не относится к модной индустрии, она решает чисто утилитарные задачи. Но если говорить именно о моде, то ее миссия — донесение идей.
Мода — это не только одежда, это коммуникационная площадка, способ показывать обществу, как нужно и можно жить сейчас. В этой сфере важна не только сама одежда, но и контекст: показы, съемки, использование моделей. Это то, что формирует восприятие. Именно поэтому примеры крупных брендов, которые обращаются к теме инклюзии, так важны: они демонстрируют новый стандарт.
У нас тоже был опыт привлечения студентов к разработке специальной одежды. Но мы всегда стремились к тому, чтобы это оставалось модой — с учетом особенностей и ограничений. Дизайнеры сами не могут решить все технические задачи: как устроены застежки, какие нужны материалы. Это уже сфера технологий. Поэтому мы скорее используем существующий опыт и стараемся донести простую мысль: одежда должна быть для всех. Задача образовательной среды в том, чтобы будущие дизайнеры понимали: общество должно быть открытым и предоставлять равные возможности каждому. В том числе возможность выглядеть так, как хочется.
Похоже, именно так это и должно работать, и мы доверяем вашему экспертному мнению.
Хочу обратиться к Марии Смирновой. Мария, вы художник и действующий дизайнер, и мне интересно, как это реализуется на практике в сфере моды. Читая ваше интервью, я обратила внимание, что вы говорите о своём творчестве как о междисциплинарном. Вы долго работаете на стыке моды и искусства, и в связи с этим хочу задать вам вопрос.
Он может быть не совсем корректным, но всё же спрошу: как в ваших коллекциях соотносится высокий художественный замысел и утилитарная, практическая функция?

Когда я только начинала свой путь как дизайнер, у меня не было социального или практического интереса к этому, я не собиралась открывать отдельную часть бренда или распространять свои идеи в этом направлении. Тем не менее опыт появился, и он оказался важен для изучения возможностей дизайна.
Однажды меня как дизайнера пригласили участвовать в конкурсе в Дюссельдорфе. Я отметила, что никогда ранее не работала с этой темой и не знаю технических нюансов, но была рада возможности. В рамках конкурса планировалось собирать идеи и смотреть, как размышляют дизайнеры с разных точек зрения. Очень интересным было то, что коллекцию для конкурса нужно было делать в двух экземплярах: один оставался у дизайнера, а второй — в фонде. Фонд, с которым я работала, собирал лекальные базы и дизайнерские видения, чтобы создать в итоге линейку, которую предлагали ведущим игрокам рынка для организации специальных отделов. Это была, конечно, утопическая идея, но для меня как для дизайнера это была захватывающая задача. Я не подходила к проекту с амбициями создать невероятные решения для людей с индивидуальными особенностями.
Тем не менее, помню свой опыт — серьезная травма в 18 лет: потеря зрения одним глазом и паралич лица. Тогда я переживала, что не могу вести обычный образ жизни, как мои однокурсники. Они помогали мне интегрироваться обратно в жизнь, и я поняла, как важно адаптироваться к собственной реальности.
Тогда мне пришла идея для сезонной коллекции — сделать одежду для людей, передвигающихся на колясках. Я не вносила кардинальных изменений, одежда оставалась модной и провокационной, с необычными принтами, тканями и деталями. Единственное изменение касалось посадки: она была идеально адаптирована для сидящей фигуры, без необходимости поднимать ноги или бежать. Девушки, которые демонстрировали коллекцию, были счастливы, потому что ничем не отличались от других модных участниц подиума. Отличие было только в том, что они передвигались на колясках, а не ногами. Их сопровождали красивые молодые люди в смокингах, и это выглядело очень эффектно.
Я не ожидала ничего, но коллекция выиграла первое место в конкурсе. Помимо победы, опыт оказался ценным: конструкция платья была универсальной и при переносе на другого человека интересным образом изменялась, появлялась деконструкция и новые линии, что добавляло коллекции уникальности и визуальной выразительности. Мы потом эту форму использовали уже для других целей, для художественных экспериментов в последующих коллекциях. Линия продолжалась, а коллекция осталась у фонда.
Интересным опытом была также коммуникация между музеем, брендом и студенткой Школы дизайна, которая работала с инклюзивными практиками. Катя Титова, моя студентка, создала работу по переработке вещей (upcycling). Она вдохновлялась слепыми людьми и сотрудничала с мастерами авоськи «Дарить надежду». Из разрезанных на полосы рубашек они сплели авоську, а на других изделиях с помощью пуговиц была выложена надпись «Я вижу сны» в шрифте Брайля. Графика была выполнена красно-белыми пуговицами, обшитыми красными нитками. Главная идея заключалась в том, что человек с нарушением зрения мог почувствовать месседж через прикосновение к пуговицам. Однако надпись располагалась на груди, и для ее прочтения нужно было трогать грудь модели или манекена. Это вызвало сложную дискуссию, но в итоге удалось найти решение: люди могли взаимодействовать с одеждой и получать дизайнерский опыт, не испытывая дискомфорта. Сложности заключались в экспонировании: часть изделий можно было трогать, а часть была под стеклом, что нарушало замысел автора. Тем не менее, этот опыт показал важность интеграции людей с отличиями в общество, предоставления им равного доступа к искусству и дизайну.
Все эти опыты позволяют мне учитывать разнообразие людей в собственном бренде. Мы делаем большую размерную линейку, так как работаем с клиентами из разных стран. Мы не ориентируемся на какой-то конкретный размер, одежда всегда модная, но конструктивно адаптирована: боковые швы смещены, длина рассчитана, чтобы силуэт выглядел гармонично, независимо от роста и телосложения.
Со своими студентами я активно применяю полученные знания, демонстрируя на практике важность принятия и равноправного взаимодействия людей с различиями в обществе.
Это действительно очень вдохновляющие истории, правда впечатляет. Я надеюсь, что таких проектов будет всё больше.
Передаю слово Вере. Как инклюзивный аспект проявляется в проектах предметного дизайна и аксессуаров? Есть ли конкретные примеры, которые вы могли бы привести?

Сегодня я буду опираться в основном на свой опыт не внутри Высшей школы экономики и Лаборатории дизайна, а внутри своего проекта «Neo-Mosaic». У нас был опыт работы с инклюзией — немного вне контекста моды, но в контексте музейных проектов.
У нас было сотрудничество с Третьяковской галереей в рамках выставки Николая Рериха пару лет назад. К нам пришел запрос на создание коллекции мерча — это включало одежду, шопперы и прочие сувениры, которые обычно можно увидеть в музейных магазинах. Мы тогда занимались созданием мозаик-витражей из переработанного пластика по собственной технологии. Мы решили не просто сделать сувенирку, а подумать о том, чтобы объект был доступен людям с абсолютно разными возможностями. Команда разработала набор магнитной мозаики из переработанного пластика на магнитном основании, без клея с подробной аудио-инструкцией. На тот момент опыта работы с инклюзией у нас не было, мы буквально нащупывали возможности, как сделать объект подходящим для всех. Появились вопросы: специфичные шрифты, темп аудиального сопровождения — все это было новым для нас.
Через пару лет к нам пришла конференция ВК Инклюзия, и мы углубились в эту тему. Мы создали мероприятие для людей с ограниченными возможностями, в котором собирались коллективные мозаики. Было три больших арт-объекта: вырезанные детали на магнитном основании с графикой, созданной специальными тактильными чернилами, которые можно было прочитать на ощупь. Это был сложный опыт, потому что при работе с мозаикой художник опирается на визуальные и тактильные ощущения, но для людей с разными возможностями восприятие формы и цвета отличаются. В итоге получился живой коллективный инклюзивный опыт, где диалог с участниками оказался крайне важным. Мы могли напрямую спросить: удобно ли пользоваться набором, как воспринимается аудиогид, все ли понятно.
Если говорить о бизнесе и инклюзии, то обратной связи мало. В обычном бизнесе количество продаж и охват дают ощущение нужности, а здесь спектр покупателей ограничен, что усложняет задачу. Многие бренды начинали и через пару лет заканчивали из-за сложности и выгорания.
Мне нравится, что иногда акцентировать инклюзивность не обязательно. Сейчас в наших наборах мозаики элементы инклюзии практически незаметны — поверхность чуть ребристая, но это не мешает обычному потребителю. Так мы расширили аудиторию и уменьшили концентрацию на специфике.
Однако чем сложнее объект, тем дороже его производство. В крупных коллаборациях, например с музеями, есть ограничения по стоимости: бренды хотят доступные цены, а малые производители не могут снизить себестоимость. Например, базовую плоскую мозаичную деталь напечатать дешевле, чем с тактильным шрифтом и аудиосопровождением. Всегда приходится искать компромисс между ценой и доступностью продукта для рынка.
Сегодня у нас состоялся значимый разговор. Спасибо нашим коллегам, что нашли возможность поделиться своим опытом, практическими знаниями и размышлениями. Очень важно, что мы обсуждаем эти темы: мода должна быть доступна для всех, и с каждым днем понимание этого должно расти.
Читайте далее
На следующей странице — рекомендации по знакомству с темой доступности музеев от Никиты Большакова, куратора программ доступности и инклюзии Музея криптографии.



