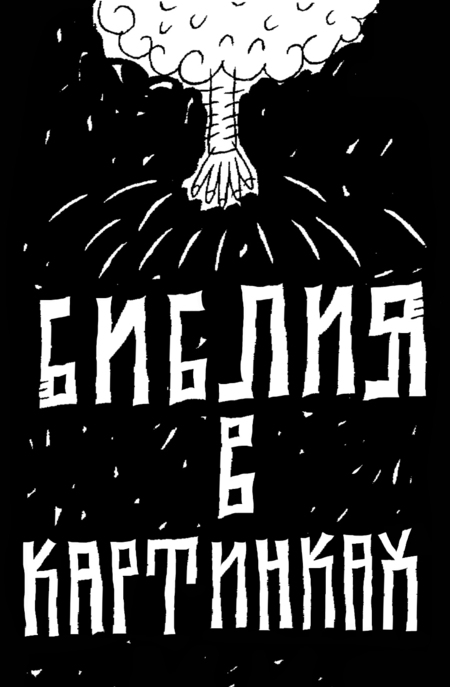Русская иконопись XIX века из собрания Виктора Бондаренко
Благовещение
Деисус (Царь царем)


Слева: Благовещение. 1801. Тверь. Справа: Деисус (Царь царем). 1812. Тверь
Благовещение
1801. Александр Пешехонов, Тверь. 31,2×27,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Ивановской области. Реставрирована Р. Н. Андрияшкиным (Палех).
Традиционная достаточно простая по композиции иконография Благовещения в XVII столетии начала расширяться за счет разнообразных дополнений, которые позволяли передать это евангельское событие в его временной последовательности. Такой повествовательный подход к изложению сюжета типичен для XVII века и особенно ярко проявил себя в поволжской иконописи, где рождались и закреплялись сложные многосоставные изводы иконографий праздников. Многим из них суждена была долгая жизнь уже в Новое время, в частности варианту Благовещения с тройным изображением архангела Гавриила. Впервые такой извод встречается в памятниках ярославской иконописи — на двух иконах середины XVII века, созданных для церкви Илии Пророка в Ярославле по заказу купцов Скрипиных. Это композиция «Благовещение» с четырехчастной иконы из Покровского придела и клеймо иконы «Спас Смоленский, с праздниками» из местного ряда иконостаса главного храма. Архангел в них представлен не только в сцене Благовещения, но также стоящим слева у входа в дом Богородицы и вверху в сцене отослания его Господом Саваофом к Марии. Во второй половине столетия иконография дополнилась также сценой Благовещения у кладезя, изображавшейся на дальнем плане, которая отражает влияние апокрифов, главным образом Протоевангелия от Иакова. На иконах XVII века далеко не всегда дополнительные изображения присутствовали все вместе, но в Новое время данный извод получил очень широкое распространение, особенно в ярославских землях, где он пользовался большой популярностью у старообрядческих иконописцев Романова-Борисоглебска.
Вполне вероятно, что под воздействием именно ярославской иконописной традиции этот извод разошелся вширь и стал применяться в других, преимущественно старообрядческих художественных центрах. Публикуемая икона связана с традициями иконописания тверских земель. Среди дополнительных сюжетов на ней присутствует Благовещение у кладезя, изображенное вверху слева. Сцена отослания архангела не показана, в соответствии с древней иконографией от Саваофа на Богородицу снисходит луч со Святым Духом в виде голубя в звездчатом нимбе. Богоматерь представлена сидящей перед столиком с раскрытой книгой — эта деталь связана с традициями иконописи XVII века и имеет западное происхождение. На полях иконы приведены две подробные пояснительные надписи, что характерно для памятников старообрядческого происхождения. Живопись иконы очень нарядна и декоративна благодаря богатой разнообразной орнаментике и яркой красочной палитре с преобладающим звучанием красного, розового, голубого и охры в сочетании с золотом. Художник явно следует традициям поволжского иконописания конца XVII века с присущим ему усложненным рисунком складок одежд и архитектурных форм. Орнаменты на полях, в первую очередь мотив корзины с цветами, связаны с влиянием искусства рококо и, возможно, позаимствованы с чеканных окладов последней трети XVIII века. Лики написаны в довольно условной манере, также восходящей к XVII столетию.
Благовещение. Фрагмент
Икона имеет автограф мастера Александра Пешехонова. Семья иконописцев-старообрядцев Пешехоновых, происходивших из тверского села Еськи, известна, прежде всего, по знаменитой иконописной мастерской в Санкт-Петербурге, основанной перебравшимся в столицу в начале XIX века Самсоном Федоровичем Пешехоновым и принадлежавшей затем его потомкам. Ранняя история семьи, весьма разветвленной, изучена очень слабо, и документальных сведений об Александре Пешехонове пока не выявлено. Икона, представленная в данном издании, позволяет судить об истоках творчества знаменитой династии, их тесной связи с поволжскими традициями, а также дает очень важные сведения о стиле старообрядческого иконописания в тверских землях на рубеже XVIII–XIX веков.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне небольшая вставка с реконструкцией живописи по свечному прожогу в центре около левой руки архангела. Тонированная вставка по нижнему краю. Надпись на верхнем поле немного прописана. Узоры на мафории Богоматери восстановлены по остаткам авторской живописи. Незначительные прописи по утратам.
Деисус (Царь царем)
1812. Григорий Дешевов, Тверь. 44,4×36,5 см. Дерево, левкас, темпера, золочение. Происхождение неизвестно, привезена из Белграда. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконографический вариант трехфигурного Деисуса, использованный в иконе, соединяет сюжеты двух самостоятельных изводов — «Царь царем» и «Предста Царица». Их объединение произошло в последней четверти XVII века у царских мастеров Оружейной палаты, и родившаяся в результате композиция заняла центральное место в деисусных рядах иконостасов, полностью вытеснив традиционного «Спаса в силах». Иконография «Царь царем» (см. кат. 22) уже в конце XVII века использовалась в основном в упрощенной модификации — без исходящего из уст Спасителя меча и окружающего его сияния, что несколько ослабляло ее символическое звучание, напрямую связанное с текстом Апокалипсиса. Кроме того, очень скоро в ней наметилась тенденция к подчеркиванию царственного достоинства Христа: к началу XVIII столетия в его руке появляется держава, многочастный венец заменяется короной, а сам он восседает на царском престоле.
Такая тронная композиция, дополненная фигурами Богоматери и Иоанна Предтечи, смыкалась с особым вариантом трехфигурного Деисуса — «Предста Царица», восходящим к тексту XLIV псалма. Он показывает сидящего на престоле в архиерейском облачении Христа, которому предстоят облаченная в царские одежды Богоматерь и Иоанн Предтеча. Соединение в одном изводе двух разных иконографических схем дало возможность подчеркнуть царственное достоинство и Христа, и Богоматери. В рамках этой иконографии еще в XVII веке царской короной начали увенчивать Иоанна Предтечу, а самого его нередко изображали крылатым — в традиционном изводе Ангела пустыни. За таким вариантом Деисуса закрепилось название «Царь царем», хотя по своей композиции он уже мало был связан с первоначальным изводом. Публикуемая икона продолжает данную иконографическую традицию, просуществовавшую все XVIII столетие. Сложная форма престола, на котором восседает Христос, восходит к образцам первой трети XVIII века. На протяжении последующих десятилетий она оставалась неизменной на многих иконах этого типа. В письме ликов ощущается тесная преемственность с традициями «живоподобного» письма, так же как в принципах орнаментики и разделок одежд очевиден отзвук традиций Оружейной палаты. В то же время произведение представляет собой образец иконы эпохи классицизма — ее композиция подчеркнуто строгая и статичная. Использован золотой условный фон и светло-охристые поля, красочная палитра богатая, но сдержанная.
Икона создана тверским иконописцем начала XIX века Григорием Дешевовым. Хотя имя мастера в подписи не названо, оно легко устанавливается благодаря идентичным по почерку подписям на других его произведениях — «Богоматерь Всех скорбящих Радость» 1808 года (частное собрание), «Троица Ветхозаветная» и «Архангел Михаил» 1811 года (обе — МЗДК). О Григории Дешевове архивных данных на настоящий момент не выявлено. В литературе упоминается другой тверской иконописец XIX века с той же фамилией — родственник Григория, возможно, брат — Степан Ермолаевич Дешевов. О нем известно, что он имел сыновей Василия и Петра, а под конец жизни был отозван в село Губин Угол, где работал в монастыре. Живопись иконы логически продолжает и развивает традиции XVIII столетия и лежит в русле того стиля, который, в конечном итоге, восходит к традициям «живоподобного» письма Оружейной палаты. Несмотря на влияние живописной иконы и адаптацию новых формальных приемов, это направление как в обеих столицах, так и в провинции сохранило преемственную связь с творчеством царских мастеров и продолжало существовать как самостоятельное художественное явление. В тверской иконописи, не связанной со старообрядчеством, данная линия жила необычно долго и имела достаточно много приверженцев. Так, уже значительно позже, чем у Григория Дешевова, явственное звучание этой традиции присутствует в творчестве другого тверского мастера, Михаила Культепина.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, заметно покороблена. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Деструкция древесины из-за ходов жука-древоточца по краям проклеена. На лицевой стороне незначительные мелкие тонированные вставки по сколам на краях и углах. Утраты золота на престоле и тонированного лака на одеждах. Незначительные потертости и загрязнения.
София Премудрость Божия
Богоматерь Неопалимая Купина
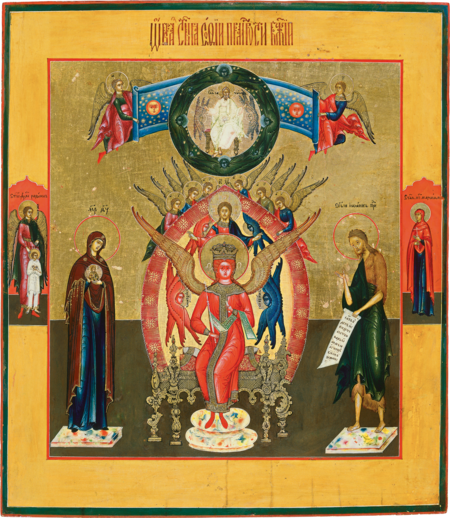

Слева: София Премудрость Божия. Первая треть XIX века. Поволжье (?). Справа: Богоматерь Неопалимая Купина. Первая четверть XIX века. Палех
София Премудрость Божия
Первая треть XIX века. Поволжье (?). 44,5×39,2 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
София Премудрость Божия — сюжет, относительно редко встречающийся в русской иконописи Нового времени. Интерес к нему прослеживается преимущественно в старообрядческой среде. Икона следует так называемому «новгородскому» иконографическому изводу, который сложился еще в XV веке в рамках изобразительного искусства Новгорода. Композиция ее в целом напоминает трехфигурный ростовой Деисус. В центре на престоле и в сиянии восседает Огнеликий Ангел в короне, олицетворяющий Божественную Премудрость. По сторонам от него изображены Богоматерь со Спасом Эммануилом в лоне и Иоанн Предтеча со свитком. Над головой Огнеликого Ангела в сиянии благословляющий обеими руками Христос, над ним сонм ангелов. В верхней части композиции два ангела с небесным свитком в руках, на фоне которого в круглой славе представлен восседающий на престоле Господь Саваоф. Эта иконография несколько отличается от древнего варианта, где над свитком неба изображалась Этимасия (Престол уготованный) как знак Страшного суда. В XVII веке, очевидно, у строгановских мастеров над Этимасией дополнительно начали помещать Саваофа, со временем ставшего единственной фигурой в этой части композиции. Кроме того, в памятниках XV–XVII веков на этот сюжет в основании престола Премудрости всегда показывалось семь столпов в соответствии с текстом 9-й притчи Соломоновой: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь…» На публикуемой иконе столпы отсутствуют, что отражает общую направленность Нового времени, когда многие существенные детали древних иконографий утратили свою смысловую нагрузку.
София Премудрость Божия. Фрагмент
На полях иконы представлены архангел Рафаил с Товией и мученица Мариамна, — очевидно, святые покровители заказчиков. Живопись иконы довольно своеобразна. В ней отразились тенденции, возникшие в рамках традиционного иконописания под воздействием классицизма. Сильно удлиненные изящные пропорции фигур, четкая графика рисунка, плоскостность изображения преобладают в художественном строе произведения. В этом стиль письма иконы созвучен тем веяниям, которые ярко проявились в творчестве владимирских иконописцев, прежде всего Палеха. В то же время памятник отличает совершенно иной колорит, очень насыщенный и звонкий, строящийся на сочетании золота с чистыми глубокими цветами — красным, синим, зеленым, коричневым и охрой. В рисунке престола еще прослеживаются отголоски барокко, а акварельная многоцветная мраморировка подножий Премудрости, Богоматери и Иоанна представляет собой индивидуальную и очень выразительную художественную находку автора. Подчеркнутая декоративность образа, сочетающаяся с графичностью и строгостью рисунка, позволяет связать его с творчеством поволжских мастеров первой трети XIX века.
Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, из двух частей. На обороте две врезные встречные шпонки с филенками. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне грунтовые трещины по трещинам доски на нижнем поле, на фоне справа. Прописи на левом поле внизу по заделанной трещине. Мелкие утраты краски и золота. Потертости золота. Тонировки по утратам. Загрязнения, механические повреждения.
Богоматерь Неопалимая Купина
Первая четверть XIX века. Палех. 53,2×43 см. Дерево, левкас, темпера. Находилась в московских коллекциях. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконы Богоматери Неопалимой Купины пользовались огромной популярностью в Новое время, поскольку этот образ считался защищающим от пожаров. Почитание его было широко распространено во всех слоях общества, не только в народной среде. Большая востребованность таких икон обусловила массовое их изготовление в различных иконописных центрах, и прежде всего во Владимирской губернии, откуда они широко расходились по всей стране. Наряду с массовой продукцией создавались очень тонкие по живописи дорогие произведения этого извода, которыми славился Палех. К их числу принадлежит и публикуемая икона. Иконография Неопалимой Купины, сложившаяся в русском искусстве середины XVI века, одна из самых сложных богородичных иконографий по композиционному построению и символико-аллегорическому содержанию. Она восходит к текстам Ветхого Завета о явлении пророку Моисею горящей, но не сгорающей купины (куста) — прообраза новозаветного Боговоплощения. Наряду с ветхозаветными символами основу сюжета составляют образы гимнографии: «Гора Нерукосечная», «Лествица небесная», «Вертоград заключенный».
В центре композиции представлены Богоматерь с Младенцем на фоне двух перекрещивающихся ромбов и многолепестковой розетки, символизирующих Славу Богоматери и Воплощение Спасителя. На концах красного ромба изображены символы четырех Евангелистов. На концах синего ромба и в разноцветных лепестках розетки — ангелы Господни с различными атрибутами, символизирующие небесные стихии и дары Святого Духа. В углах помещены сцены пророческих видений: вверху — Явление Моисею Богоматери в горящем кусте и Вложение раскаленного угля в уста пророка Исайи; внизу — Видение Врат затворенных пророку Иезекиилю и Видение Лествицы небесной пророку Иакову. Эта часть композиции представляемой иконы вполне традиционна, но имеет также и ряд интересных и редких черт, появляющихся только в Новое время в результате дальнейшего богословского осмысления темы.
Особенность иконы — дополнительные изображения пророков на полях и фоне в медальонах, часть из которых напоминает по форме языки пламени. Вверху представлены Даниил и Иона, на левом поле — Сафония, Михей, Илия и Гедеон, на правом — Малахия, Иеремия, Елисей, Захария, на нижнем — Соломон, Самуил и Давид. Соломон и Давид изображены с прообразовательными символами — храмом и Сионом, Самуил — с книгой. Над Самуилом — три отрока в пещи огненной, рядом — царь Навуходоносор и халдеи. На фоне иконы в круглых медальонах представлены пророки Захария и Наум. Таким образом, композиция получает дополнительный смысловой оттенок, соответствующий иконографии Похвалы Богоматери. В среднике внизу слева также показан образ церкви с Христом Ветхого и Нового Завета. Чтобы уравновесить композицию, мастер в правом углу подробно разворачивает композицию Видения пророка Иакова, протягивая лестницу с восходящими и нисходящими ангелами к благословляющему Христу в круглом медальоне, который вписан в один из «лепестков» розетки вокруг Богородицы с Младенцем. В самом верху находится восседающая на небесах Новозаветная Троица.
Этот особый, усложненный вариант иконографии «Неопалимая Купина» был разработан в Палехе. Он не повторяется буквально, а известен по иконам, в которых различные детали изображения на темы ветхозаветных сюжетов компонуются достаточно индивидуально. Публикуемый памятник отличается полнотой изобразительной программы на полях, где представлены пророки, но, что касается средника, то известны и более насыщенные по составу сюжетов произведения. Так, в верхних его углах могли дополнительно изображаться Жезл Иессеев и пророчество Ионы о Ниневии. Встречается также включение сцены, объединяющей два сюжета, — «Погребение пророка Моисея» и «Апостол Иоанн Богослов на Патмосе», помещавшейся над розеткой с образом Богоматери. Чрезвычайно интересен колорит иконы. Чистые и звонкие цвета эффектно смотрятся на белом фоне средника. В фонах клейм на полях присутствует голубой, напоминающий о традициях конца XVIII века. Тончайшее миниатюрное письмо отличается той виртуозностью, которая была присуща мастерам Палеха в начале XIX столетия.
Сохранность. Доска из двух частей, скреплена с оборота двумя врезными встречными дубовыми шпонками с филенками. Небольшое расхождение досок по стыку. Над верхней шпонкой справа сквозная трещина доски. Оборот затонирован, торцы слегка залевкашены. На лицевой стороне трещины левкаса по стыку досок и по трещине основы. Тонированные вставки по трещинам. Мелкие вставки на фоне, ликах ангелов стихий, на изображении Христа в сцене Лествицы Иакова. Вставки по нижнему краю. Тонировки на фоне и полях. Прописи на изображении Троицы — реконструированы врата и Евангелие. Прописи по всей поверхности, особенно значительные на лузге.
Богоматерь Владимирская-Волоколамская
Покров


Слева: Богоматерь Владимирская-Волоколамская. Первая треть XIX века. Палех (?). Справа: Покров. 1819 год. Палех
Богоматерь Владимирская-Волоколамская
Первая треть XIX века. Палех (?). 42×33,2 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Изображения Богоматери Владимирской с узорным убрусом поверх мафория и короной на ее нимбе известны с третьей четверти XVI века. Такие иконы воспроизводили древний чудотворный образ вместе с элементами его драгоценного убранства — жемчужным очельем и украшенным камнями золоченым венцом. Самая ранняя, написанная московским иконописцем Симеоном Яковлевым для Софийского собора в Новгороде, датируется 1561 годом (НГОМЗ). Другая была вложена в Иосифо-Волоколамский монастырь Малютой Скуратовым в 1572 году (ЦМиАР) и очень скоро прославилась чудотворениями, поэтому иконы подобного извода традиционно называют Владимирскими-Волоколамскими, хотя это не совсем верно. Волоколамский образ дополнен изображениями московских святителей, митрополитов Петра и Ионы, отсутствующими на других иконах данного типа. В конце XVI–XVII веке было создано еще несколько сходных образов, которые своими размерами соответствовали чудотворному. В Новое время один такой образ бытовал в старообрядческой среде. Согласно более поздней надписи на обороте, его выполнил в 1647 году мастер Софрон (Покровский собор при Рогожском кладбище в Москве). В конце XVIII — начале XIX века извод встречается в ярославской иконописи, но без изображения короны на нимбе.
Эта иконография использовалась также и в небольших иконах строгановского круга (ЯХМ). С образца строгановских мастеров она, очевидно, попала в Сийский иконописный подлинник. Прорисью, восходящей к тому же иконному образцу, что и сийский лист, пользовался автор публикуемой иконы: в точности совпадает силуэт, рисунок складок одежд и короны, нимбы также оставлены без орнаментики. Художник несколько усилил декоративное звучание «приклада» иконы, плотно заполнив убрус имитацией жемчужного шитья. Кроме того, на полях он изобразил фигурные наугольники, имитирующие драгоценные накладки с камнями и жемчугом. Внизу в картуше помещен текст молитвы к Богоматери. Колорит иконы очень светлый и сближенный по тонам. Цвета неяркие, приглушенные обильными золотыми разделками. Сочетания голубовато-зеленого, оранжево-розового и коричневого характерны для иконописи Палеха раннего XIX века. Интересный прием — легкая зеленовато-синяя цветовая растяжка на фоне, уже довольно редко встречающаяся в памятниках этого времени. Лики проработаны по оранжевой охре небольшими аккуратными высветлениями. Описи ликов тонкие и графичные. В целом, хотя стиль живописи иконы очень оригинален, в нем явственно прослеживаются традиции иконописцев владимирских сел. Возможно, она была написана в Палехе.
Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Шпонки заменены при современной реставрации. Оборот затонирован оранжевой краской. На обороте трещина древесины правее центра, проходящая между шпонок и над верхней шпонкой. Другая трещина — левее центра под нижней шпонкой. Скол древесины на обороте в правом нижнем углу. Над нижней шпонкой затертая надпись. Обрезы и торцы залевкашены и закрашены при современной реставрации. На них гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне мелкие тонированные утраты золота на нимбах и в разделках одежд. Потертости и незначительные утраты красочного слоя. Поля, опушь, текст надписи в картуше прописаны.
Покров
1819 год. Палех. 106,8×76,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Композиция иконы наиболее полно отразила все черты, характерные для иконографии праздника Покрова в Новое время. Схема эта получила широкое распространение в иконописи Палеха и Мстёры в XIX веке, и одна из ее особенностей — множество святых различных чинов святости, представленных по сторонам от Богородицы в верхней части иконы. Изображение предстояния святых Богородице на иконах Покрова возникает в начале XVII века в творчестве строгановских мастеров; самый ранний известный пример — икона мастера Михаила из Благовещенского собора в Сольвычегодске (ГРМ). В дальнейшем эта деталь вошла в иконописную практику и часто встречается в памятниках XVII столетия. Надо отметить, что наряду с фронтальным расположением фигуры Богородицы часто она пишется в трехчетвертном развороте влево — обращающейся с молитвой к Христу. Такой ракурс появляется в строгановском письме, но палехские художники XIX века его использовали нечасто, предпочитая древнее строгое фронтальное изображение держащей покров Богородицы.
Еще одна особенность иконографии публикуемого памятника — сцена видения во сне Богородицы Роману Сладкопевцу. Данная композиция также, очевидно, пришла в русские иконы на сюжет Покрова благодаря строгановским иконописцам. Во всяком случае, она прослеживается с середины XVII века и присутствует в произведениях, ориентированных по иконографии и стилю на строгановские образцы, в частности в иконе из собрания РГИАХМЗ. Эта сцена основывается на предании о том, что изначально знаменитый гимнограф Роман Сладкопевец не обладал даром стихосложения — он получил его от Богоматери, когда она явилась ему во сне и вложила в уста свиток. Изображение видения Богородицы Роману стало неотъемлемой частью иконографии Покрова у иконописцев Владимирской губернии и помещалось в левом нижнем углу композиции. Действие происходит в храме на фоне иконостаса, отражающего реальный вид иконостасов того времени. В центре расположены Царские врата с овальными медальонами, в которых написаны Благовещение и евангелисты. Такие же живописные овальные изображения известны в творчестве мастеров села Палех. По сторонам от врат в местном ряду находятся иконы Богоматери Тихвинской и Христа Вседержителя. Традиция помещения храмовых иконостасов в сцену Покрова известна с XVIII столетия.
Стиль письма иконы чрезвычайно характерен для палехских художников первой четверти XIX века. Пропорции фигур слегка вытянуты, композиция плотная, но ритмически проработанная, рисунок активный. Общий колорит достаточно светлый, однако в палитре художника есть и насыщенные цвета — малиновый, глубокий синий. Очень светлые лики написаны почти монохромно. Икона изобилует мелкими орнаментами, покрывающими одежды и элементы архитектуры. Образ предназначался, очевидно, для храма и принадлежит к числу дорогих заказных икон. Особую ценность ему придает наличие датирующей надписи, поскольку произведения палешан подписывались и датировались очень редко. Каждый такой памятник является вехой в осмыслении и правильном понимании динамики развития стиля в иконописи Палеха.
Сохранность. Доска с ковчегом, из трех частей; скреплена с оборота двумя врезными встречными очень широкими шпонками с филенками. Оборот закрашен темно-коричневой краской. Левый стык досок с оборота немного разошелся. На боковых обрезах следы крепления утраченного оклада. На лицевой стороне небольшая грунтовая трещина на верхнем поле по стыку досок. Значительные потертости и утраты золота на нимбах, тонированные твореным золотом при реставрации. Надписи на нимбах прописаны. Мелкие утраты красочного слоя.
Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому
Достойно есть


Слева: Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. Первая четверть XIX века. Палех. Справа: Достойно есть. Первая треть XIX века. Палех
Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому
Первая четверть XIX века. Палех. 35,2×27,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Эпизод из Жития преподобного Сергия Радонежского, описывающий явление ему Богоматери с апостолами Петром и Иоанном Богословом во время молитвы в келье, выделился как самостоятельный сюжет уже в XV веке. Тогда же сложилось два варианта его извода, различающиеся тем, как был представлен преподобный Сергий — коленопреклоненным или стоящим перед Богородицей. Наиболее раннее использование первого варианта встречается на шитой пелене второй половины XV века (ГИКМЗМК). В нем сохранена историческая достоверность события, поскольку за Сергием показан наблюдавший за этим чудом его келейник Михей. Второй вариант, где преподобный стоит перед Богоматерью, носил более символический характер, так как вместе с Сергием изображался Никон, не присутствовавший при чуде, но бывший его ближайшим учеником и преемником. Этот сюжет впервые известен по клейму резного напрестольного креста второй половины XV века из Троице-Сергиева монастыря (СПГИХМЗ). В XVII веке появляются иконы, которые совмещают особенности обоих вариантов — в композицию с коленопреклоненным Сергием и выглядывающим из сеней Михеем вводится фигура стоящего Никона. Именно эту схему воспроизводит публикуемая икона.
Сюжет «Сергиева видения» уже с XVI века стал основным для небольших раздаточных образов Троице-Сергиева монастыря, предназначавшихся для подарков его посетителям, а позднее и на продажу паломникам. На протяжении нескольких веков их в огромном количестве писали монастырские иконописцы. Однако воспроизводимая здесь икона явно не относится к их числу. Это дорогой, чрезвычайно изощренный по живописи образ был выполнен в Палехе в первой четверти XIX века. Именно поэтому в нем использован тот вариант иконографии, который в монастырских мастерских уже давно вышел из употребления. По-видимому, автор иконы использовал образец XVII столетия. Пышные архитектурные палаты с многочисленными башенками, шпилями, кивориями и куполами изображают келью преподобного Сергия, поскольку, согласно житию преподобного, она в момент явления Богородицы «сделалась пространной». Обилие сооружений, очень напоминающих по форме минареты, позволяет предполагать, что художник вдохновлялся гравюрами с видами Иерусалима из популярных в то время цельногравированных Проскинитариев — путеводителей по Святой Земле. Все эти архитектурные формы покрыты сложным многоцветным орнаментом, типичным для художников-палешан. На переднем плане архитектурный ансамбль образует некое пространство, забранное кулисами, а идущие внизу под углом боковые стенки с балясником создают впечатление театральной сцены, где разворачивается действие. Вверху в небесном сегменте изображена Троица в соответствии с посвящением монастыря, что является обязательной деталью данной иконографии. Светлая, переливающаяся как радуга палитра, светлые поля с тройной опушью, плотный золотой орнамент, идущий по черной лузге, четкое структурное и почти монохромное письмо ликов, умеренное использование золота в разделках и деталях позволяют отнести это произведение к первой четверти XIX века и связать его с лучшими иконописными мастерскими Палеха того времени, такими как мастерская Ивана Хренова.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, немного опилена снизу (возможно, под оклад). Скреплена с оборота двумя врезными встречными широкими шпонками. На торцах гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне мелкие утраты по краям, небольшие тонированные вставки на нимбах центрального и левого ангелов в изображении Троицы. Потертости и утраты золота. Справа вверху оставлены фрагменты старого покрытия.
Достойно есть
Первая треть XIX века. Палех. 31,3×24,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Икона иллюстрирует Богородичное песнопение из литургии Иоанна Златоуста, написанное, по преданию, гимнографом Космой Маюмским. Каждая из четырех частей композиции соответствует одной из его строк. Первое клеймо — «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородице». В нем Богородица с Младенцем восседает на престоле в окружении ангелов, внизу представлены апостолы. Во втором клейме — «Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего» — Богоматерь стоит в ростовом изводе Воплощение (с поднятыми руками и медальоном со Спасом Эммануилом на фоне лона) в окружении ангелов и в сиянии, подобном иконографии Спаса в силах, внизу ей предстоят пророки. Третье клеймо — «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим», где стоящая с Младенцем на левой руке Богородица представлена в окружении девяти чинов Сил Небесных. В четвертом клейме — «Без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем» — она вновь сидит на престоле в изводе, близком Богоматери Печерской в окружении святителей, внизу — ее прославляют преподобные. Иконография сложилась в московском искусстве середины XVI века. Самая ранняя из известных икон этого типа — большой образ, написанный для Соловецкого монастыря, находящийся сейчас в Успенском соборе Московского Кремля (ГИКМЗМК). Широкого распространения этот извод не получил, хотя встречается и в Новое время среди произведений, создававшихся в иконописных центрах Владимирской губернии.
Достойно есть. Фрагмент
Публикуемая икона композиционно довольно точно следует древнему оригиналу, отличаясь лишь незначительными деталями. Так, в первом клейме нет изображения преподобных Зосимы и Савватия, поскольку на древней иконе их присутствие было продиктовано тем, что она предназначалась для Соловецкого монастыря. Кроме того, некоторые детали сокращены из-за малого размера иконы. Авторская формулировка текста к третьему клейму — «Честнейшую херувим и славнейшую воистину серафим» — соответствует древнему варианту песнопения, подвергшемуся при патриархе Никоне редактированию. Этот факт свидетельствует о старообрядческом бытовании памятника. Интересно, что икона написана на старой доске, что также не редкость для старообрядческих работ. Икона имеет близкую иконографическую и стилистическую аналогию — образ «Достойно есть», созданный в первой трети XIX века в Палехе (ЦМиАР), текст к третьему клейму которого также соответствует старообрядческому варианту написания. Несмотря на некоторые отличия в композиции клейм оба памятника чрезвычайно близки по колориту, характеру рисунка, манере исполнения ликов. В целом, стиль их живописи соответствует принятому у мастеров Палеха в первой трети XIX века и ориентирован на образцы строгановского письма рубежа XVI–XVII веков.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Доска старая, возможно XVI века, имеет наружный бортик, залевкашенный заподлицо. Шпонки заменены в XIX веке, имеют филенчатую форму. На обрезах и торцах остатки гвоздей и гвоздевые отверстия от крепления рубашки и оклада. На лицевой стороне тонированные вставки с искусственным кракелюром на полях. На нижнем поле вставки заходят на клейма, живопись на них и на рамке лузги реконструирована. Потертости золота и красочного слоя, тонировки. Опушь выполнена заново.
Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, с житием
Богоматерь О Всепетая Мати


Слева: Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, с житием. Первая половина XIX века. Палех. Справа: Богоматерь О Всепетая Мати. Первая половина XIX века. Палех
Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, с житием
Первая половина XIX века. Палех. 35,4×30,7 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Иваново. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский (1349–1444) — самый известный из святых, подвизавшихся в Поволжье. Уроженец Нижнего Новгорода, он принял монашеский постриг в юном возрасте, а в зрелые годы в поисках уединения ушел из города и проповедовал христианство среди мордвы, черемисов и чувашей. За свою жизнь основал нескольких монастырей в нижегородских и костромских землях, три из которых по примеру преподобного Сергия Радонежского посвятил Троице. Первый из них, Троицкий Желтоводский близ Нижнего Новгорода, св. Макарий был вынужден покинуть из-за татарского набега. Окончил свои дни в основанном им Троицком Унженском монастыре. В XVI веке он пользовался большим местным почитанием в костромских землях, жители Солигалича связывали со святым спасение города от нашествия татар. Общерусская канонизация св. Макария произошла в начале XVII века, сразу после Смутного времени, при первом царе династии Романовых Михаиле Федоровиче, отец которого, патриарх Филарет, считал свое спасение из польского плена чудесным заступничеством преподобного.
Житийные иконы святого известны со времени его канонизации, большинство из них было создано в костромских землях. В XIX столетии к житийным образам Макария Унженского обратились иконописцы Палеха. Ближайшей аналогией публикуемому памятнику является образ из собрания архиерейской ризницы и Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве, написанный в то же время. Состав клейм на обеих иконах совпадает, но их иконография разнится. Изображения в среднике очень близки, но не вполне идентичны. Несколько различается и манера письма, хотя оба памятника, несомненно, принадлежат искусству палехских мастеров, о чем говорит характер рисунка, трактовка горок и архитектуры, колорит и приемы исполнения ликов. Надо отметить, что подобная житийная программа и близкая иконография использовались в первой половине XIX века не только в Палехе, но и в Поволжье. В среднике преподобный представлен в молении на фоне Желтоводского монастыря, архитектурный ансамбль которого передан достаточно точно. Этот извод был разработан Симоном Ушаковым в 1660-х годах и затем активно использовался в раздаточных иконах, которые отражали изменения облика монастыря, происходившие с течением времени при его перестройках.
Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, из трех частей; скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками с филенками. Нижняя шпонка треснула пополам. На лицевой стороне тонированные вставки по углам и краям с рисованным кракелюром. Вставки заходят на тексты к клеймам. Узкая вставка с реконструкцией живописи по стыку досок справа. Авторское золото фона в значительной степени утрачено, восполнено при реставрации. Прописи твореным золотом по разделкам одежд. Потертости и утраты красочного слоя, многочисленные мелкие тонировки. Надписи к клеймам и в среднике правлены и дописаны по утратам, местами с ошибками.
Богоматерь О Всепетая Мати
Первая половина XIX века. Палех. 46,8×27 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконографический тип, к которому относится публикуемая икона Богоматери, известен в русской традиции под разными названиями — «Арапская», «Арапетская», «Аравийская», «О всепетая Мати». Последнее — и наиболее часто встречающееся — восходит к первым словам 13-го кондака Акафиста Богородице, его строфа обычно приводится в самих иконах на кайме мафория Богородицы, идущей вокруг ее лика. В церковном календаре икона празднуется как чудотворная, однако сведения о прославленных образах с таким названием отсутствуют. Извод имеет позднее происхождение, его точный прототип не выявлен, но очевидно, что им являлся западноевропейский или поствизантийский образец. Несмотря на черты «латинства», иконография была особенно популярна у старообрядцев. Она встречается с конца XVII века, присутствует на нескольких листах Сийского иконописного подлинника, но широкое распространение получила в XIX веке. Извод известен как в прямом, так и в зеркальном варианте, когда Младенец изображается слева от Богородицы.
На западный источник иконографии указывают свободная подвижная поза Младенца, его не прикрытые одеждой обнаженные ножка и плечо (на русской почве интерпретировались в связи со страстной тематикой). В то же время образец подвергся редакции в духе русских богородичных иконографий XVI века, таких как «Гора Нерукосечная» и «Неопалимая Купина», — мафорий Богородицы расцвечен клубящимися облаками, вместо трех звезд приснодевства на нем изображены алые медальоны с ангельскими ликами. Все это дополняет смысловую трактовку образа сложным символическим оттенком. Голова Богородицы увенчана короной Царицы Небесной, по форме имитирующей драгоценные венцы с иконных окладов, однако данная деталь присутствует не всегда. Публикуемая икона имеет вытянутый формат за счет заметно увеличенной ширины верхнего и нижнего полей. Учитывая размер иконы, можно предполагать, что она создавалась в меру новорожденного младенца. Традиция мерных родильных икон предполагала, в основном, изображение на них святого, в честь которого был крещен ребенок или на день памяти которого он родился. Случай использования для мерной иконы богородичной иконографии нетипичен, но вполне возможен в связи с особым почитанием подобного образа в семье или в связи с рождением на день празднования образу.
Икона написана чрезвычайно тонко, в лучших традициях искусства Палеха первой трети XIX века. Особенно тщательно и структурно выполнены лики — в почти монохромной гамме с широкими белильными высветлениями по холодноватого оттенка вохрениям. Колорит иконы очень светлый, типичный для первой трети XIX века. Изысканный декоративный эффект рождают выписанные твореным серебром и золотом облачка на мафории Богоматери и цветовая растяжка на фоне от зеленовато-голубого к розовому — прием, идущий от царских мастеров второй половины XVII столетия.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, немного покоробленная. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Оборот закрашен коричневой краской. На обрезах и торцах доски гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне обширная тонированная вставка на нижнем поле слева, заходящая на левое поле. Тонированные утраты золота на нимбах. Опушь и буквы в надписях прописаны. Серебряные и золотые облака на мафории Богоматери восстановлены по фрагментарно сохранившейся авторской живописи.
Деисус (Седмица)
Святитель Николай Чудотворец, с житием (в окладе)
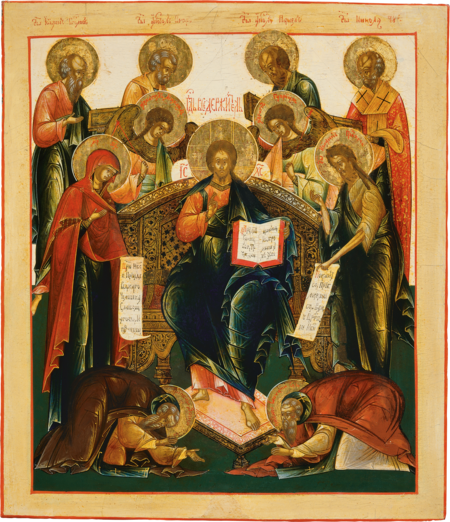
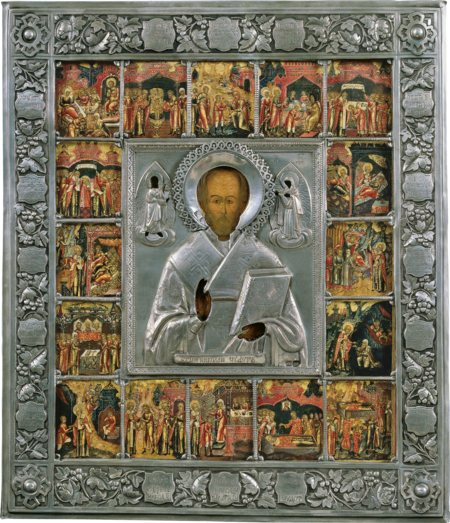
Слева: Деисус (Седмица). Первая половина XIX века. Палех. Справа: Святитель Николай Чудотворец, с житием. XIX век. Палех
Деисус (Седмица)
Первая половина XIX века. Палех. 31,3×27 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография образа восходит к особому варианту семифигурного Деисуса, известному под названием «Седмица». Основу такой композиции составляет традиционное изображение Спаса на престоле с Богоматерью и Иоанном Предтечей по сторонам. Его дополняют фигуры двух ангелов за престолом, помещенных непосредственно по сторонам от Христа, а не за Богородицей и Иоанном, как в обычном Деисусе. Также для данного извода в кратком варианте характерно включение в композицию фигур апостолов Петра и Павла, стоящих за ангелами немного выше, и двух коленопреклоненных преподобных перед престолом Спасителя. Таким образом, эта композиция объединяет всех, чья память особо отмечается Церковью в течение семи дней недели (седмицы): Спаситель (пятница и воскресенье), Богоматерь (среда), Иоанн Предтеча (вторник), апостолы (четверг), Силы Небесные (понедельник), преподобные и все прочие святые (суббота).
Деисус (Седмица). Фрагмент
Состав изображенных на таких иконах мог расширяться за счет дополнительных святых. На публикуемой иконе к апостолам Петру и Павлу добавлены апостол Иоанн Богослов и святитель Николай (память отцов Церкви также приходится на четверг). Из преподобных представлены русские святые Зосима и Савватий Соловецкие, которые очень часто присутствовали на образах подобной иконографии. Живопись иконы выполнена в соответствии с художественными принципами иконописцев Палеха первой половины XIX века. В то же время она отличается некоторой беглостью манеры письма. В силуэте восседающего на престоле Христа художник деформировал пропорции фигуры, сильно расширив ее нижнюю часть, как бы стремясь заполнить композиционные пустоты. Такие пропорциональные сбои, придающие остроту зрительному восприятию памятника, не очень типичны для палешан, стремившихся к предельной законченности и выверенности изображения. Лики написаны в согласии с выработанной в Палехе системой, восходящей к иконам строгановских мастеров. Красочная палитра строится на сочетании приглушенных, гармонично сближенных между собой цветов, но бледно-охристые поля и белый фон придают памятнику типичное для палехских икон первой половины XIX века ощущение высветленности колорита.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными встречными широкими шпонками на обороте. Шпонки подтесаны сверху. Трещины доски над верхней и под нижней шпонкой в центре. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления оклада. На лицевой стороне небольшие тонировки по утратам по всей поверхности. Потертости и утраты золота на нимбах тонированы твореным золотом, надписи на них в местах утрат возобновлены. Опушь местами прописана.
Святитель Николай Чудотворец, с житием (в окладе)
Икона — первая половина XIX века. Палех. Оклад — 1900 год. Мастер Василий Наумов, Москва 35,8×30 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, гравировка. Поступила из коллекции М. Е. Елизаветина. Реставрирована В. В. Ковальчуком
Житийная иконография святителя Николая в русской иконописи чрезвычайно развита и разнообразна; по богатству сюжетов и многочисленности житийных икон она значительно превосходит иконографию всех других святых. Древнейшие памятники относятся к XIV столетию, в дальнейшем же количество изображаемых житийных сюжетов на иконах святителя Николая значительно увеличилось, и в XVII столетии в отдельных случаях число их превышает сто. Для икон XIV–XVII веков характерен очень индивидуальный подбор сюжетов при известной стабильности житийной иконографии святителя. В Новое время, напротив, намечается тенденция к стандартизации житийных циклов, что ярко иллюстрирует иконопись Палеха: массовость спроса на подобные произведения способствует выработке в палехских мастерских типологических житийных схем, зависящих от количества предполагаемых к изображению клейм, — их бывало сорок, шестнадцать, двенадцать. Житийные иконы святителя Николая с одинаковым количеством клейм, как правило, совпадают по подбору сюжетов, хотя расположение их нередко определяется той тематикой, которую художник хотел особо подчеркнуть.
Цикл из 16 клейм, представленный на публикуемой иконе, давал возможность довольно полно показать основные события жизни и наиболее известные чудеса святого. Здесь присутствует характерная для Нового времени жесткая последовательность сюжетов — хотя в клеймах подробно изображаются посмертные чудеса св. Николая, цикл заканчивается сценами его кончины и перенесения мощей. Среди палехских житийных икон святителя Николая с 16 клеймами публикуемый памятник имеет очень точные аналогии по подбору сюжетов, и, одновременно, по стилю живописи. Можно предполагать, что все они были созданы в одной мастерской, где эта композиционная схема была наиболее разработанна. Интересно, что в них допускается одна и та же ошибка в надписях к клейму «Явление святителя Николая царю Константину и епарху Евлавию во сне». На представленной иконе царь ошибочно назван Стефаном. Очевидно, на этот сюжет наложилось другое чудо святителя Николая — о возвращении зрения сербскому царю Стефану. Точно такая же ошибка присутствует на публиковавшейся ранее и очень близкой и по композиции, и по стилю иконе с 16 клеймами из собрания Виктора Бондаренко. Она отличается только введением дополнительного клейма «Осуждение Ария», для чего в одной композиции были совмещены два сюжета, связанные с патриархом Афанасием. Отличающиеся тонкостью и драгоценностью миниатюрной живописи, такие иконы становились семейной реликвией, что, в частности, выражалось в изготовлении окладов для них. Представленная икона, например, получила оклад спустя десятилетия после своего создания, когда его владельцем был некий П. Ф. Усов.
Сохранность. Икона. Доска без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обороте доска расколота, внизу выпад сучка. На обороте надпись, повторяющая надпись на окладе. На лицевой стороне тонированные вставки по краям. Золото тонировано по утратам. Поля прописаны, надписи к клеймам не сохранились. Оклад. Незначительные деформации металла.
Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и страстями
Шестоднев
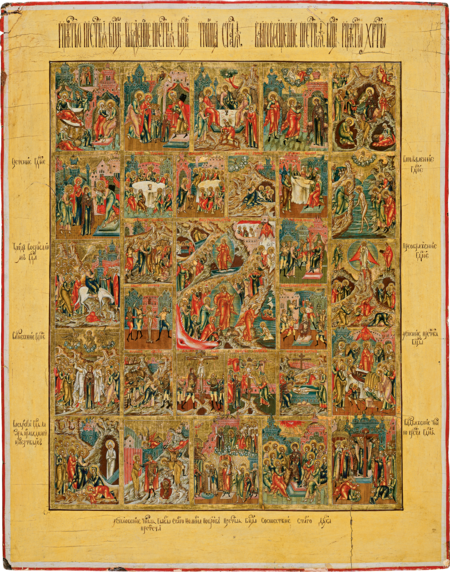

Слева: Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и страстями. Первая половина XIX века. Палех. Справа: Шестоднев. Первая половина XIX века. Палех
Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и страстями
Первая половина XIX века. Палех. 71×56,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Одна из самых популярных и любимых в иконописи Палеха иконографий — так называемая «Полница», которая совмещает изображения основных церковных праздников годового круга, иногда дополненных сюжетами страстного цикла. Сохранилось множество подобных икон палехских мастеров — больших и маленьких, отличающихся виртуозностью миниатюрного письма и совсем простых, с разным количеством сюжетов, которые датируются от последней трети XVIII до начала XX столетия. Иконы, на которых в среднике представлено Воскресение Христово в виде Сошествия во ад, а в клеймах основные праздники, встречаются уже в XVI веке. В XVII столетии центральное изображение на таких произведениях обретает устойчивую иконографическую схему, где Воскресение Христово изображается в двух вариантах — событийном (Восстание от гроба) и символическом (Сошествие во ад). Обе сцены объединяют две композиционные диагонали — шествие ангелов в ад на битву с Сатаной и шествие праведных из ада в рай. Очень часто эту композицию дополняли сюжетами, предшествовавшими Воскресению и следовавшими за ним. В то же время расширился сюжетный состав клейм, куда помимо праздников нередко включали изображения страстей Христовых. Особенно популярна подобная композиция была в Поволжье, откуда, вероятно, ее позаимствовали палехские мастера.
На поволжских Полницах XVII века праздники и страсти разделились в два отдельных цикла — первый размещали в клеймах внешней рамы, второй — внутренней. Эта схема, прижившись в Палехе, стала здесь традиционной и варьировалась незначительно. Однако различия могут прослеживаться в иконографии отдельных клейм определенного сюжета. Схему иногда дополняли четырьмя евангелистами (в углах на полях), а также какой-либо гимнографической или символико-аллегорической композицией (в круглом медальоне вверху в центре). Устойчивым признаком палехских Полниц стало помещение в центре верхнего ряда праздников клейма «Троица Ветхозаветная», хронологически нарушающего евангельское повествование. Эту особенность палешане также унаследовали от поволжских образцов. Нередко в нижний ряд клейм включали «Огненное восхождение пророка Илии», поскольку он пользовался особым почитанием в русском народе, но на публикуемой иконе это изображение отсутствует.
Шестоднев. Фрагмент
Сложная многосоставная иконография Полницы позволяла представить в одном произведении все наиболее важные евангельские события согласно церковному календарю, что было очень удобно и определило большую популярность таких икон в разных слоях общества. Дорогие, тщательно выполненные работы, подобные представленному памятнику, нередко имевшие довольно значительные размеры, предназначались для состоятельных заказчиков. Несмотря на многосюжетность иконографии, в отдельных клеймах дорогих заказных Полниц старались представить каждое событие как можно подробнее за счет введения дополнительных сцен. Так, на публикуемой иконе в клейме «Поцелуй Иуды» изображено также отрезание уха у Малха апостолом Петром; кроме того, использованы развернутые схемы праздников «Благовещение», «Преображение», «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Колорит иконы отличается сдержанностью и высветленностью, характерными для палехских икон эпохи классицизма. В то же время приемы письма довольно сильно выбеленных ликов, горок, архитектуры, разделок одежд настолько отработаны, что свидетельствуют об уже сложившейся и отлаженной традиции исполнения таких икон. Очевидно, мастерская, где было создано произведение, специализировалась на подобной иконографии.
Сохранность. Доска без ковчега, на обороте две врезные встречные широкие шпонки с филенками. Сквозная трещина доски в центре и под нижней шпонкой левее центра. Растрескивание по верхнему и нижнему краю. На обрезах и торцах немногочисленные гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления оклада. Торцы закрыты паволокой и пролевкашены. На лицевой стороне сколы левкаса в углах и по краям, местами прописанные коричневой краской. Справа внизу на поле грунтовая трещина по трещине доски с мелкими выпадами левкаса. Потертости золота. Выпады краски на мафории Богоматери и на багрянице Христа во всех клеймах. Утраты красочного слоя. Потемнение серебра (крылья ангелов). Механические повреждения.
Шестоднев
Первая половина XIX века. Мастерская Хохловых (?), Палех. 36×30,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Среди иконографий, известных только у палехских мастеров, первое место занимает Шестоднев особой редакции. Таких икон, очень близких между собой, сохранилось довольно много, и поскольку на трех из них есть подпись известного палехского иконописца рубежа XVIII–XIX веков Василия Ивановича Хохлова (Музей-квартира П. Д. Корина, ЦАК МДА и коллекция Хорста Вейбера в Германии), подобные произведения обычно приписывают его мастерской, имея в виду самого мастера и его многочисленных родственников. Скорее всего, именно с Хохловыми было связано сложение особой композиции Шестоднева, поэтому семья могла специализироваться на написании таких икон. Традиционная иконография Шестоднева, известная в русской иконописи с начала XVI века, включает в себя несколько отдельных изображений. В центре располагается Деисус со Спасом в силах, в верхней части композиции представлены праздники, соответствующие шести дням недели, а в нижней — Суббота всех святых. Эта схема сложилась на основе текстов поучений Кирилла Философа (IX в.), которые приурочены к каждому дню недели, кроме субботы. Поэтому изображение Субботы всех святых было добавлено для того, чтобы показать все дни седмицы и связанные с ними памяти.
В таком виде эта схема продолжала существовать в русской иконописи вплоть до начала XX столетия. Параллельно на рубеже XVIII–XIX веков складывается ее расширенный вариант, очевидно, под влиянием текстов Шестодневов средневековых авторов, комментирующих сотворение мира за шесть дней. В традиционную композицию над Деисусом вводятся шесть сцен дней творения, а внизу грехопадение и изгнание из рая. У Василия Хохлова добавилась еще и занимающая поля рама с клеймами. Наверху в центре на ней изображалось Поклонение жертве, за ним по сторонам в двух клеймах четыре святителя, тематически с ним связанные и образующие композицию Служба святых отцов. В углах помещались четыре евангелиста, а в остальных клеймах попарно избранные святые, подбор которых был достаточно устойчивым. На нижнем поле всегда изображались в центре Убиение царевича Димитрия, а по сторонам от него две пары блаженных в молении — московские Василий и Максим, великоустюжские Прокопий и Иоанн. Обычно на боковых полях икон Шестоднева имеется восемь пар избранных святых — по четыре с каждой стороны. Реже встречается шесть пар, как на публикуемом памятнике. Аналогичную композицию имеют, в частности, еще одна икона из собрания Виктора Бондаренко и образ из коллекции М. Е. Елизаветина. Подбор и расположение этих святых, несмотря на отмеченную устойчивость, нередко варьировались, и это единственное иконографическое различие, которое встречается в иконах Шестодневов.
На представленной иконе на левом поле изображены митрополиты Петр и Алексий Московские, святители Феодор и Леонтий Ростовские, преподобные Иоанн Дамаскин и Григорий Декаполит. На правом поле — митрополиты Филипп и Иона Московские, святители Игнатий и Иаков Ростовские, преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Из них к вариативным относятся преподобные Иоанн Дамаскин и Григорий Декаполит. Еще одна особенность этого памятника — отсутствие узкой, часто орнаментированной рамки между средником и полями, которую в данном случае заменила белильная тонкая разгранка. Колорит на известных иконах Шестоднева разнится, как и манера исполнения. Датированные и подписные иконы Василия Хохлова отличаются светлой и богатой палитрой наряду с тончайшей техникой миниатюрного письма. Подобные иконы уже изначально в силу сложности композиции и работы предполагались как дорогие заказные произведения. Однако среди них есть и сравнительно простые образцы, относящиеся к более позднему времени. Публикуемый памятник отличается сдержанной цветовой гаммой, в которой большую роль играет золото. Выполнен он на очень высоком уровне; приемы письма чрезвычайно отлажены, что говорит о не очень ранней дате создания — ближе к середине XIX века. На обороте иконы имеется надпись карандашом с указанием фамилии — Волков. Можно предполагать, что это владельческая запись, однако в Палехе существовала довольно разветвленная династия иконописцев Волковых, что также нельзя не учитывать при атрибуции памятника.
Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, цельная. На обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Под верхней шпонкой карандашная надпись «Волков». Над верхней шпонкой две вертикальные трещины доски, одна из них залевкашена. На лицевой стороне прописи по опуши. Небольшие потертости золота. Мелкие выпады краски и незначительные тонировки по утратам.
Шестоднев
Мученик Кодрат Птолемаидский


Слева: Шестоднев. Вторая треть XIX века. Палех. Справа: Мученик Кодрат Птолемаидский. Первая треть XIX века. Владимирские иконописные центры или Москва
Шестоднев
Вторая треть XIX века. Мастерская Хохловых (?), Палех. 40,4×32,8 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрация начата до поступления в собрание, закончена В. В. Ковальчуком.
Публикуемая икона имеет классическую схему палехского Шестоднева, где на боковых полях представлено дополнительно по четыре пары избранных святых. Большинство известных памятников этой иконографии относятся именно к такому типу. На левом поле изображены митрополиты Петр и Алексий Московские, святители Игнатий и Исайя Ростовские, преподобные Феодосий и Антоний Печерские, преподобные Паисий Великий и Марон. На правом — митрополиты Иона и Филипп Московские, святители Леонтий и Иаков Ростовские, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. В этом подборе к вариативным относятся изображения преподобных Паисия Великого и Марона.
На иконе довольно активную роль играет цвет — мастер ввел цветные разгранки, более насыщенными по цвету стали как фоны отдельных изображений, так и красочная гамма в целом. В то же время рисунок оказывается весьма беглым и незамысловатым. Обращает на себя внимание то, что в клейме с блаженными Прокопием и Иоанном Устюжскими заметно обедняется пейзаж — в нем нет традиционного изображения города. В клейме с московскими блаженными изображение Москвы присутствует, но становится заметно суше и формальнее. Золотая рамка, отделяющая средник от полей, оставлена однотонной, тогда как в более ранних памятниках она обычно покрывалась тонким орнаментом и имитировала лузгу ковчега. Характер живописи иконы свидетельствует, что она является произведением относительно массового производства, и это прямо указывает на время ее создания — около середины XIX века. Тем не менее, в ней еще сохраняются лучшие качества палехского миниатюрного письма, особенно в исполнении мельчайших деталей в клеймах Сотворения мира, и присущая работам этого центра подчеркнутая декоративность.
Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей, на обороте была скреплена двумя врезными встречными шпонками. Обе шпонки утрачены. Доска немного покороблена. Оборот затонирован коричневой краской. Мелкие тонированные сколы по краям и углам. Потертости и небольшие утраты золота. Горизонтальные грунтовые трещины на верхней и нижней части рамы. Вертикальные трещины на левом поле. По трещинам местами мелкие выпады.
Мученик Кондрат Птолемаидский
Первая треть XIX века. Владимирские иконописные центры или Москва. 31,8×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Мученик Кондрат (Кодрат, Квадрат) Птолемаидский — святой воин, пострадавший вместе с воинами Акакием и Стратоником в Птолемаиде Финикийской около 273 года. Все трое участвовали в истязаниях мучеников Павла и Иулиании, были поражены силой их духа и уверовали в Христа, за что также были казнены. Уже в древних источниках нет единого мнения о дне памяти всех пятерых святых, и им празднуют дважды в году — 4 марта и 17 августа. Иконы мученика Кондрата исключительно редки, поэтому произведение могло быть выполнено только по особому заказу как образ тезоименитого святого. Образ святого Кондрата на иконе буквально совпадает с прорисью из Сийского иконописного подлинника, на которой представлен великомученик Димитрий Солунский. Очевидно, иконописец использовал в своем произведении аналогичный сийскому образец, сделанный с того же иконного оригинала XVII века. Как отмечалось, изображения Кондрата большая редкость, и мастер подобрал подходящий аналог по сходству внешнего описания мучеников — оба молодые, оба воины — и просто заменил имя святого.
Оригинальная особенность иконы — зеленый цвет ее фона и полей. Такое цветовое решение иногда встречается в произведениях старообрядческих иконописцев последней трети XVIII — первой половины XIX века. Зеленый цвет в иконе появляется в эпоху классицизма, и первоначально имеет светлый нежный оттенок, как на иконах из трехчастного оплечного Деисуса со Спасом Эммануилом и двумя архангелами 1795 года работы московских иконописцев, выходцев из Борисоглебской слободы Ярославской губернии братьев П. И. и М. И. Сапожниковых (ГРМ). Со временем этот цвет становится более насыщенным, одновременно меняются и приемы письма личного. Если на иконах конца XVIII века из ГРМ это очень светлые и объемные лики, то позже на подобных зеленофонных произведениях манера письма становится все условней, высветления ложатся менее обширными и более четкими плоскостями. Таким образом, по особенностям колорита и письма лика публикуемая икона может быть отнесена к первой трети XIX века.
Мученик Кодрат Птолемаидский. Фрагмент
Локализовать место ее создания довольно трудно в силу незаурядности образного решения. С одной стороны, копирование древних образцов, работа в стиле строгановских мастеров были прерогативой старообрядческих иконописцев Мстёры. С другой — лик святого написан в манере, очень характерной для Палеха. Но возможно также, что икону выполнили в Москве, где оседали пришлые мастера и доводились до совершенного выражения художественные идеи, рождавшиеся в разных старообрядческих центрах. Не исключено происхождение иконы из мастерской братьев Сапожниковых, которые были известны своей богатой коллекцией иконных прорисей и у которых работало много мастеров из разных регионов. Живопись иконы удивительно тонкая, виртуозная по рисунку и изысканная по колориту. Хотя мастер и копировал готовый образец, он создал вполне оригинальное произведение, вдохновленное рафинированной миниатюрной живописью XVII столетия, но отражающее эстетические пристрастия эпохи классицизма.
Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей, слегка покороблена. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. На лицевой стороне небольшая утрата левкаса в правом нижнем углу. Тонкая грунтовая трещина по стыку досок. Тонировки по утратам на опуши по стыку на нижнем поле. Потертости золота на нимбе. Незначительные выпады краски.
Господь Вседержитель
Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская
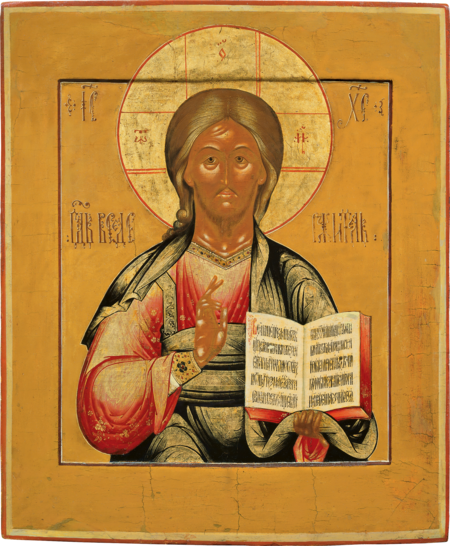
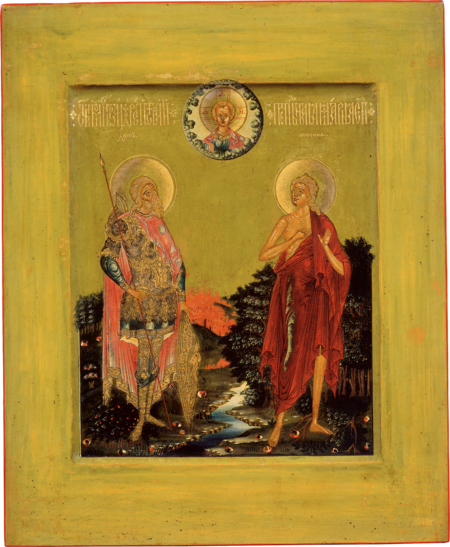
Слева: Господь Вседержитель. Первая половина XIX века. Мстёра. Справа: Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская. Вторая четверть XIX века. Мстёра
Господь Вседержитель
Первая половина XIX века. Мстёра. 40×32,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Как в иконографии, так и в стиле живописи икона точно следует образцу второй четверти XVII века и представляет собой замечательный пример искусной стилизации под старину, которой славились художники Мстёры. Поза Христа, рисунок его одежд в целом достаточно традиционны, однако лик типологически точно вписывается в определенную историческую эпоху. Хрупкий, идеальный по форме овал, едва намеченная борода, тонкий вытянутый нос и маленькие уста, пышная шапка волос, круглые глаза со слегка провисающими нижними веками взяты с образцов работы царских мастеров 30–40-х годов XVII столетия.
Цветовые сочетания одежд, покрытых густыми золотыми разделками складок и тонким орнаментом, позаимствованы оттуда же. Однако более всего преемственность с мастерами дониконовской эпохи прослеживается в манере письма лика. Он выполнен достаточно темными оранжевого оттенка вохрениями и доработан резко контрастными небольшими мягкими пробелами, которые выглядят как вспышки света. Этот довольно маньеристический прием часто встречается в московской иконописи накануне рождения «живоподобного» стиля. Он присутствует в целом ряде произведений Назария Истомина Савина и в работах его преемника Степана Резанца. По-видимому, этот прием пришел в иконопись из монументальной живописи, бывшей во второй четверти XVII века на особом подъеме в Московском государстве. Такая точность в передаче оригиналов XVII века обусловлена использованием графических образцов-прорисей, снятых с работ прославленных иконописцев, которыми постоянно пользовались мстёрские мастера. Возможно, что перед глазами автора публикуемой иконы было и живописное произведение кого-то из знаменитых царских изографов, поскольку в буквальном следовании образцу она выделяется среди многих себе подобных.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Под нижней шпонкой справа трещина доски. На лицевой стороне тонированные вставки на полях и в углах. Грунтовая трещина по трещине доски слева, небольшие трещины на нижнем поле. Золото потерто.
Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская
Вторая четверть XIX века. Мстёра. 39,8×32,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.
Чрезвычайно интересная по своему письму икона, стилизованная под живопись XVII века, создавалась, очевидно, как образ святых покровителей супружеской четы, Андрея и Марии. Традиция подобных изображений прослеживается с Позднего Средневековья, когда она была связана, прежде всего, с царским бытом. В Новое время такие иконы становятся популярными в широких слоях русского общества. Мученик Андрей Стратилат (ум. ок. 300) — военачальник, а позднее главнокомандующий (стратилат) римской армии, тайно исповедовавший христианство. Крестившись вместе со своими воинами в городе Тарсе, он добровольно принял с ними и мученическую кончину в горах Тавра от подосланного императором Максимианом отряда правителя Киликии Селевка. На Руси был почитаем издревле, его имя носили многие русские князья. Изображения мученика обычно включались в состав росписей храмов, но отдельные иконы святого встречаются только в Новое время.
Преподобная Мария Египетская (ум. 522) — блудница из Александрии, которая, после того как услышала в Иерусалимском храме голос осудившей ее Богородицы, 47 лет подвизалась отшельницей в Иорданской пустыне, предаваясь аскезе. В русской иконописи изображения св. Марии, в том числе и житийные, стали популярны в XVII веке благодаря тому, что она была святой покровительницей царицы Марии Ильиничны Милославской, первой супруги царя Алексея Михайловича. На иконе святые предстоят образу Спаса Эммануила. Они изображены в изящных позах, пропорции их тел аристократически вытянуты, как это характерно для поздней строгановской традиции XVII века. Весьма вероятно, что художник опирался в своей работе на какой-то строгановский образец-прорись. Известна прямая стилистическая аналогия публикуемому памятнику, вышедшая, очевидно, из той же мастерской, — икона «Великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский» из коллекции М. Е. Елизаветина, при создании которой мастер использовал такую прорись. Позднее это произведение было опубликовано в сборнике «иконных переводов» знаменитым иконописцем из Мстёры В. П. Гурьяновым.
У ног святых далеко внизу, будто переданный с высоты птичьего полета, расстилается пейзаж, проработанный в мельчайших деталях и предстающий как сказочный преображенный мир, подобный райскому саду. Доспех св. Андрея серебряный с золотом, его узор тщательно выписан; тонированные голубые разделки розового плаща мученика, неожиданно сочетающиеся с насыщенным зеленым фоном, свидетельствуют о чрезвычайно тонком ощущении цвета автором иконы. Особый изыск — проработка нимбов твореным золотом и серебром одновременно. Лики святых написаны в соответствии с образцами XVII столетия, однако в технике их письма плавными белильными высветлениями по охре холодноватого оттенка проглядывают приемы, характерные для арсенала владимирских иконописцев первой половины XIX века. Безукоризненной стилизацией под древнюю живопись, рассчитанной на знатоков и ценителей старины, славились мастера слободы Мстёра Владимирской губернии. Публикуемая икона, принадлежащая к данному направлению, — одно из наиболее рафинированных и тонких произведений мстёрских художников.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. На лицевой стороне мелкие утраты красочного слоя, незначительные тонировки. Золотые надписи слегка усилены.
Беседа Христа с самарянкой (Неделя о самаряныне)
Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека)
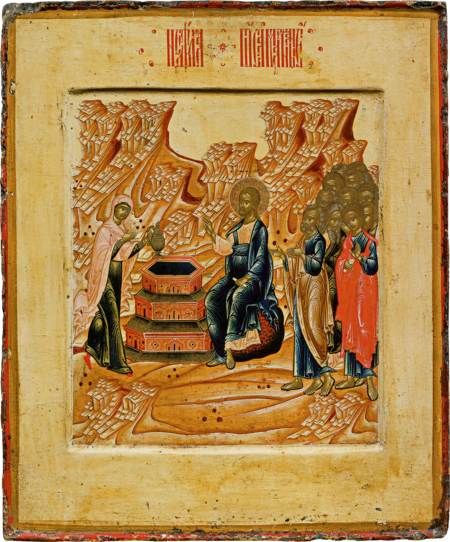

Слева: Беседа Христа с самарянкой (Неделя о самаряныне). XIX в. Центральная Россия. Справа: Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека). Первая половина XIX в. Поморье
Беседа Христа с самарянкой (Неделя о самаряныне)
Первая половина XIX века. Центральная Россия. 32×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Сведений о реставрации не имеется.
Икона изображает событие, вспоминаемое Церковью в пятое воскресенье после Пасхи. Этот праздник в церковном календаре именуется «Неделя о самаряныне», поскольку посвящен описанной в Евангелии от Иоанна беседе Христа с самарянкой (Ин. IV, 5–42). Евангелие повествует о том, как недалеко от города Сихарь в Самарии присевший отдохнуть у колодца Христос попросил женщину-самарянку зачерпнуть ему воды. Поскольку иудеи чуждались самарян, женщина была поражена его необычным поведением и расположением к ней. После беседы с Христом она уверовала в него как в Мессию, и за ней последовали другие самаряне.
Иконография «Недели о самаряныне» появляется в русской живописи во второй половине XIV века и использовалась очень редко. Один из примеров встречается у строгановских мастеров в начале XVII века (ГРМ). Композиция этой иконы довольно проста и традиционна: в центре на переднем плане изображен колодец, слева от него сидит Христос, справа самарянка зачерпывает деревянным ведром на веревке воду из колодца. Поскольку Христос путешествовал вместе с апостолами, которые в тот момент отлучились, их группа представлена на заднем плане, как и город, из которого местные жители с удивлением взирают на происходящее. В такой схеме сюжет доживает до конца XVII века — почти так же его изобразил в 1689 году ярославский художник на иконе из Толгского монастыря (ЯХМ). В иконе из представляемого собрания, относящейся к еще более позднему времени, композиция имеет другое решение. Самарянка с кувшином в руках находится слева, а Христос справа, причем апостолы плотной группой стоят прямо за ним. Женщина делает шаг навстречу Христу, а он ее благословляет.
Манера письма иконы очень необычна. Лики написаны в подражание дониконовским образцам, но в весьма вольной интерпретации. В палитре мастера присутствуют как звучные глубокие цвета, так и нежные тонкие оттенки. Колорит иконы в целом довольно светлый за счет общего тона фона и полей. Чрезвычайно оригинально выполнены горки, завершенные четкими структурными мелкими лещадками. Интересная деталь — разбросанные по горкам коричневые округлые камни, сгруппированные по три. Эта деталь активно использовалась в иконах из иконостасов усадебных храмов в последней четверти XVIII века, где она несла определенную символику, но со временем стала восприниматься только как орнамент, а затем и вовсе вышла из употребления. Мастер публикуемой иконы вспомнил о ней именно из стремления сделать изображение более декоративным.
Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Оборот закрашен коричневой краской. В правом верхнем углу и на шпонке помета «12». На лицевой стороне небольшие сколы по краю. Мелкие, местами тонированные утраты красочного слоя. Механическое повреждение на надписи над головой Христа.
Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека)
Первая половина XIX века. Поморье. 31,5×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в коллекцию.
Изображения ангела-хранителя, оберегающего человека от бесов во время сна, впервые появляются в русской иконописи в конце XVI — начале XVII века в творчестве строгановских мастеров, но практически не встречаются вплоть до Нового времени, когда эта тема становится популярной в старообрядческой среде. В основе данного сюжета лежит «Сказание об ангелах-хранителях», распространенное в русской рукописной традиции начиная с XVII века. В нем повествуется о том, что ангелы-хранители человеческих душ ежедневно рассказывают у престола Божия о грехах своих подопечных. Солнце и Луна просят Господа разрешить пожечь грешников огнем за беззаконные дела, но ангелы-хранители молят Спасителя повременить до следующей ночи, чтобы дать им возможность покаяться. Символика такого изображения раскрывается также церковными текстами, где говорится об ангеле-хранителе, прогоняющем беса во время сна и охраняющем человека от напастей днем. Кроме того, ангел сохраняет человека от смерти во сне без покаяния, о чем необходимо молиться каждый вечер и утро.
Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека). Фрагмент
Композиция, еще очень простая в начале XVII века, включающая изображения спящего на ложе под иконой человека, стоящего слева от него архангела Михаила с крестом в руке и убегающего беса слева, к началу XIX столетия немного видоизменяется. Архангела Михаила заменил ангел-хранитель, который еще раз представлен за ложем спящего читающим записанные на свитке его дневные дела. Человек также показан дважды — спящим и творящим молитву перед иконой. Эта схема могла дополняться за счет изображения описанного в «Сказании об ангелах-хранителях» видения ангелов. Такой подробный извод присутствует на невьянской иконе середины XIX века (собрание А. А. Фролова). Схема, на основе которой создан публикуемый памятник, бытует в мстёрской иконе рубежа XIX–XX веков (собрание М. Е. Елизаветина). Обычно подобные иконы сопровождаются пространными текстами, поясняющими изображенное. В данном случае это фрагменты из разных молитв. Икона написана в традициях поморского иконописания, о чем говорит, прежде всего, характерный достаточно скупой колорит. В то же время ее живопись отличается большой тонкостью. Интересно передан бес на переднем плане, обозначенный только контуром. Он как бы незримым подбирается к спящему человеку, чтобы захватить его душу, но в страхе бежит от ангела.
Сохранность. Доска без ковчега, из четырех частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. По обрезам и торцам доски гвоздевые отверстия. На лицевой стороне небольшие потертости золота на фоне и нимбах. Незначительные тонировки по утратам. Надписи усилены.
Вид Тихвинского монастыря
Богоматерь Умягчение злых сердец, с избранными святыми


Слева: Вид Тихвинского монастыря. Первая четверть XIX века. Тихвин (?). Справа: Богоматерь Умягчение злых сердец, с избранными святыми. Первая четверть XIX века. Центральная Россия
Вид Тихвинского монастыря
Первая четверть XIX века. Тихвин (?). 35,7×29,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Сюжет иконы необычен, подобные композиции приходят в иконопись только в Новое время под влиянием видовых гравюр, точно передающих топографию и архитектурный облик различных монастырей. На иконе внизу представлен как бы с высоты птичьего полета Большой Успенский Тихвинский монастырь, а вверху два ангела держат в руках его главную святыню — Тихвинский образ Богоматери, осеняющий обитель исходящим от него сиянием. Главное на этой иконе — изображение чудотворного образа, о чем говорит авторская надпись на белой ленте. Монастырь играет второстепенную роль, это всего лишь дополнение к образу, однако обладающее собственной значимостью и дающее зримое представление о месте, где пребывает святыня. На полях иконы — фигуры местных святых, основателей монастырей, расположенных рядом с Тихвинским, — преподобных Антония Дымского и Мартирия Зеленецкого. На нижнем поле приводится подробная экспликация монастырских построек, пронумерованных, как принято на картах и планах того времени. Эта особенность прямо указывает на то, что в основе воспроизведения лежит гравюра с видом монастыря.
Традиция изображения монастырских ансамблей на иконах получила широкое распространение в XVII столетии, когда в русской иконописи появляется особый жанр — так называемые «иконы основания», в которых присутствовали святые вместе с основанными ими обителями, лежащими у их ног. Несмотря на известную условность, такие иконы нередко очень верно передавали архитектурные особенности того или иного монастыря, что и сейчас позволяет реконструировать их облик в определенный исторический период. Для царских иконописцев второй половины XVII века характерна фиксационная точность в изображении монастырских комплексов, а в петровское время, с распространением печатной графики, в иконах начинают использовать гравюры с видами монастырей. Одна из первых в этом ряду — икона 1709 года вологодского иконописца Ивана Маркова, представляющая Соловецкий монастырь (ВГИАХМЗ). Панорама обители занимает на иконе значительное место, в то время как фигуры ее основателей немного уменьшены и сдвинуты к краям. Внизу композиции помещена подробная экспликация.
Вид Тихвинского монастыря. Фрагмент
В XVIII веке подобный принцип передачи закрепился в русской иконописи и с различной долей подробности воспроизведения образца встречается в изображении других монастырей, в частности Троице-Сергиевой лавры и Никандровой пустыни. Что касается Тихвинского монастыря, то публикуемая икона не единственная в этом иконографическом ряду. Известен еще один сходный образ, датируемый рубежом XVIII–XIX веков (ЦАК МДА). Его композиция несколько отличается тем, что монастырь на нем показан с другой стороны и отсутствуют экспликация, а также избранные святые на полях. По манере живописи и колориту икона принадлежит к произведениям, отразившим эстетику классицизма. По-видимому, ее создание связано с иконописными мастерскими Тихвинского монастыря. Подобные произведения продолжали традицию раздаточных образов, но уже в эстетической редакции Нового времени.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Торцы залевкашены и закрашены вместе с боковыми обрезами красно-коричневой краской. На лицевой стороне небольшие сколы по краям. Небольшие утраты золота. Тонировки по мелким утратам. Потертость живописи на нижнем поле, остатки старого покрытия.
Богоматерь Умягчение злых сердец, с избранными святыми
Первая четверть XIX века. Центральная Россия. 36×30,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Изображения Богоматери Умягчения злых сердец восходит к так называемому Симеонову проречению — словам, сказанным св. Симеоном Богоприимцем в момент Сретения Господня об оружии печали и боли сердечной, которое «пройдет душу» Богородицы, когда она увидит своего сына распятым. В западной традиции изображения стоящей при Кресте Марии, грудь которой пронзает меч, появились уже в XIII–XIV веках. Позднее вместо одного стали изображать семь мечей или кинжалов, символизирующих «семь страстей» Богородицы. В живописи и скульптуре католического мира эта иконография получила широкое распространение в XVI–XVII веках и через Польшу и западнорусские земли пришла в Россию. Первая известная русская икона такого извода, находящаяся в иконостасе дворцовой Распятской церкви в Московском Кремле, была выполнена в 1682 году живописцем Василием Познанским, поляком по происхождению. Это поясное изображение Богородицы, грудь которой пронзают семь кинжалов — три слева и четыре справа. В XVIII–XIX веках иконография обретает популярность и используется в основном в небольших иконах, рассчитанных на домашнее бытование. Некоторые из них впоследствии прославились чудотворениями. Нередко эти образы именовались также «Семистрельными», поскольку в более позднее время кинжалы заменили стрелами. Последние изображались строго симметрично — по три с каждой стороны и одна внизу.
Публикуемая икона, несмотря на позднее время своего создания, следует первоначальной иконографической схеме «Умягчения злых сердец». Грудь Богоматери пронзают кинжалы, расположенные несимметрично. Отличительная деталь — зеленый платок, который Мария прижимает к груди. Он напоминает о том, что Богоматерь в данном изводе представлена в момент Распятия, и этим платком она утирала слезы, видя страдания и смерть Христа. Одежды Богородицы также несколько необычны. Мафорий не запахивается складками на груди, а подобен священнической фелони, имеющей прорезь для головы. Волосы покрывает светлый узорный убрус, скрепленный на груди пуговкой. Эта деталь, встречающаяся в различных богородичных иконах Нового времени, свидетельствует о копировании с западных образцов.
Икона, по-видимому, была выполнена по особому заказу, поскольку на фоне по обеим сторонам Богоматери представлены избранные святые, тезоименитые членам семьи заказчика. Однако надписи с их именами не сохранились, что существенно затрудняет полную идентификацию. Среди святых слева в нижнем ряду показан также ангел-хранитель, изображения которого стали чрезвычайно популярны на иконах позднего времени. Живопись иконы неординарна. Красочная палитра художника разнообразная и яркая, в то время как общий колорит произведения кажется светлым за счет сближенных по тону фона и полей. Лик Богородицы написан почти монохромно, но в его округлом абрисе, рисунке глаз и носа явственно угадываются отголоски «живоподобной» манеры исполнения. В одеждах мастер обильно использует тонкий золотой узор; примечательно решение мафория Богоматери, покрытого мелкими золотыми облачками. Хотя стиль произведения не имеет прямых аналогий, нельзя исключать его связи с поволжской художественной традицией.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя торцевыми врезными шпонками. Глубокая трещина доски на обороте. На лицевой стороне небольшие сколы и тонированные вставки по краям. Золото на нимбах утрачено, восполнено при реставрации. Находившиеся на нимбах святых надписи не сохранились. Мелкие утраты краски, незначительные прописи.
Богоматерь Млекопитательница
Богоматерь Взыскание погибших (в окладе)


Слева: Богоматерь Млекопитательница. Первая половина XIX века. Центральная Россия. Справа: Богоматерь Взыскание погибших (в окладе). 1829. Москва.
Богоматерь Млекопитательница
Первая половина XIX века. Центральная Россия. 35,1×29,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.
Иконографический тип Богоматери Млекопитательницы — один из древнейших в христианской изобразительной традиции, но в иконописи он получил распространение довольно поздно и встречается нечасто. Он стал популярен у поствизантийских итало-критских изографов, скорее всего, под воздействием западной традиции, где в средние века подобный сюжет был хорошо известен. Наиболее древний русский богородичный образ такого типа, выполненный, по-видимому, во второй половине XV века с греческого оригинала, находился в Благовещенском соборе Московского Кремля и имел собственное название — Богоматерь Барловская, или «Блаженное чрево». Затем интерес к этому изводу проявился только в XVII веке — также под воздействием западной культуры. Сдерживающим фактором в его распространении на Руси было, очевидно, изображение обнаженной груди Богоматери, что не соответствовало традиционному целомудренному пониманию иконного образа. Более того, даже в XIX веке Священный Синод периодически запрещал показывать на иконах и особенно печатных листах обнаженную грудь Богородицы в образах Млекопитательницы.
Тем не менее, в полной мере соответствующие этой иконографии образы Богоматери, кормящей Младенца грудью, имели достаточно широкое хождение с XVII столетия. В них нет единой композиционной схемы, но известны ее локальные варианты. Так, на рубеже XVII–XVIII веков на Русском Севере сложился свой особый извод, где Богородица предстает на фоне райского сада с солнцем и луной по сторонам от нее; причем существует этот извод и в прямом, и в обратном (зеркальном) изображении. Известны также иконы того периода, восходившие к образу Богоматери Барловской. Во всех вариантах извода часто писались пряди волос Богородицы, выбившиеся из-под мафория на плечи.
Икону, представленную в данном издании, отличают нетрадиционные иконографические особенности. Она не имеет авторского названия, которое указывало бы на ее первообраз, но некоторые характерные признаки Богоматери Барловской в ней присутствуют. Так, Младенец лежит, а не сидит у Богоматери на руках, что типично именно для древней Барловской иконы. В то же время Богородица дает ему грудь, тогда как в Барловской иконе он держится за грудь сам. Пряди волос не рассыпаны здесь по плечам Богородицы, тем не менее в образе достаточно «латинских» иконографических черт, а именно: под мафорием на ее голове виден легкий белый убрус, мафорий заколот у шеи на круглую пуговку, на головах обоих короны. Вероятно, такое изображение явилось следствием копирования не византийского, а какого-то более позднего западного образца уже в Новое время. На полях иконы в отдельных киотцах представлены ангел-хранитель и мученица Матрона Селунская — очевидно, святая покровительница первой владелицы иконы. Живопись образа не менее оригинальна, чем его иконография. Лики переданы чрезвычайно пластично, несмотря на условный рисунок. Колорит иконы насыщенный и разнообразный, хотя и несколько темный. Возможно, в художественном строе произведения отразились особенности одного из малоизученных русских иконописных центров Нового времени.
Сохранность. Доска кипарисная, с ковчегом, цельная, скреплена на обороте двумя врезными сквозными узкими и высокими шпонками. Под нижней шпонкой зачиненные трещины доски. На торцах и обрезах следы крепления оклада. На лицевой стороне тонированные вставки по нижнему краю, заходящие на боковые поля. Утраты и потертости золота на фоне и нимбах. Мелкие выпады краски и тонировки. Прописи на полях. Остатки старого покрытия и мелкие загрязнения.
Богоматерь Взыскание погибших (в окладе)
1829. Москва. 31,8×26,6 см (икона); 32,1×27,3 см (оклад). Дерево, левкас, темпера, цветные лаки; серебро, чеканка, золочение, эмаль. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконография образа Богоматери Взыскания погибших пришла в русскую иконопись в Новое время. Ее название связано с обращением к Богоматери, впервые встречающимся в повести «О покаянии Феофила, эконома церковного, во граде Адане», которая описывает события, произошедшие в VII веке; повесть же стала известна в России в XVII столетии. Композиционная схема извода возникла вследствие копирования с западного образца — графического или живописного, и его иконография отличается рядом черт, характерных для «латинских» изображений Богоматери с Младенцем, встречающихся в работах как североевропейских, так и итальянских художников.
Младенец, стоящий на коленях Богоматери, обнимает ее за шею, а она поддерживает его сцепленными в пальцах руками. В русских иконах, как правило, присутствует и типичный для западных образцов архитектурный антураж: фигуры представлены на фоне глухой арки или ниши, а слева и справа (чаще только с одной стороны) от них в арочных проемах или окнах изображен пейзаж. Иконография образа сложилась задолго до того, как соответствующие ему иконы прославились и стали почитаться как чудотворные. Прославление их происходило в разное время и в разных местах, в силу чего они несколько отличались друг от друга. Зачастую различия появлялись и вследствие корректировки слишком откровенного «латинства» образца самими художниками при копировании. Поэтому понять, список с какой чтимой иконы представляет собой тот или иной образ, помогают отдельные характерные детали.
Одна из наиболее известных прославленных икон «Взыскание погибших» находилась в селе Бор Калужской губернии. Она сама являлась списком с иконы Богородицы из Георгиевской церкви в Болхове Орловской губернии, выполненным в середине XVIII века по обету крестьянина Федота Обухова. Помимо Богоматери с Младенцем на иконе в ее навершии было изображение Богоявления, которое в списках с нее не повторялось. Борский образ был по своему изводу адаптирован к иконописной традиции — Богородица на нем, в отличие от других прославленных образов этого типа, представлена с покрытой головой. Среди многочисленных и очень популярных в первой половине XIX века небольших домашних икон «Взыскание погибших» именно по данной детали можно определить те, что восходят к Борскому образу. Популярности Борской иконы способствовал также тот факт, что довольно скоро списки с нее, уже со своей историей прославления, появились в храмах Москвы, как, например, образ из церкви Святителя Николая в Кузнецах.

Интересно, что в стиле большинства икон на этот сюжет, особенно в манере написания ликов, прослеживается некая преемственная связь с «живоподобием» начала XVIII века. Возможно, в публикуемом произведении сохраняется память о самых первых образах такого типа, созданных в то время. На полях этой иконы представлены патрональные святые ее заказчиков — мученик Феодор Тирон и праведная Анна. По письму они несколько отличаются от основного изображения, поскольку выполнены с активным применением цветных лаков. Вскоре после создания иконы для нее был изготовлен серебряный оклад, ярко отражающий эстетику русских иконных окладов эпохи позднего классицизма.
Сохранность. Икона. Доска кипарисная, цельная, без ковчега и шпонок. Была расколота на две части, склеена при реставрации. На лицевой стороне вставка с реконструкцией по линии разлома. Мелкие сколы по краям. Золото на нимбах потерто. Незначительные утраты красочного слоя, механические повреждения и загрязнения. Оклад. Небольшая деформация металла, отдельные лучи на венце немного погнуты.
Богоматерь Взыскание погибших
Богоматерь Одигитрия Смоленская


Слева: Богоматерь Взыскание погибших. Вторая четверть XIX века. Москва (?). Справа: Богоматерь Одигитрия Смоленская. Первая треть XIX века. Москва (?)
Богоматерь Взыскание погибших
Вторая четверть XIX века. Москва (?). 32,7×25 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Вторым после Борского знаменитым образом Богородицы Взыскания погибших была икона из московского храма Рождества Христова в Палашах. Ее прославление произошло уже в XIX веке и связано с событиями Отечественной войны. Об образе известно, что его в 1802 году вложил в храм некий прихожанин. В 1812 году, во время пребывания в Москве наполеоновских войск, храм был разорен, а икона подверглась поруганию — солдаты французской армии разрубили ее на части. После освобождения города образ, реставрированный художником Мягковым, поместили в особом приделе храма.
Богоматерь Взыскание погибших. Фрагмент
Московская икона полностью соответствует западному прототипу — Богородица на ней изображена с непокрытыми волосами. Кроме того, сам образ выполнен не в иконописной, а в живописной манере, что еще более подчеркивает его сходство с западными произведениями. Списки с московской иконы «Взыскание погибших» также имели широкое бытование. Несмотря на нетрадиционный характер живописи первообраза, их обычно писали в традиционной манере и темперной технике, хотя встречаются и живописные, выполненные маслом. Публикуемая икона относится к числу первых. Судя по довольно темному оттенку ликов и темным полям, образ написан ближе к середине XIX века. Скорее всего, местом его создания была Москва, где находился и первообраз. На иконе своеобразно передана тщательно проработанная в архитектурных деталях тройная розовая аркада на заднем плане. Фрагмент пейзажа в левом арочном проеме имеет условный золотой фон, хотя обычно здесь изображалось голубое небо.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. На верхнем торце остатки гвоздей с фрагментами холщовой рубашки. На лицевой стороне вмятина на левом поле. Золото на нимбах и фоне местами утрачено, восстановлено твореным золотом при реставрации. Мелкие утраты красочного слоя, некоторые затонированы. Опушь прописана. Надпись на верхнем поле усилена.
Богоматерь Одигитрия Смоленская
Первая треть XIX века. Москва (?). 43,4×35,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография образа в целом соответствует Богоматери Одигитрии, которая в России получила название Смоленской и в позднее время встречается только под этим именем. Единственное отличие — слегка склоненная к Младенцу Христу голова Богородицы, напоминающая о другом варианте Одигитрии — Богоматери Иверской.
Икона была выполнена мастером — приверженцем официальной Церкви, поэтому ее живопись отражает развитие основной стилистической линии в поздней русской иконописи, которая, в отличие от старообрядческой, не ориентировалась на дониконовские образцы. Лик Богоматери написан в манере, восходящей к традициям «живоподобного» письма второй половины XVII века. Просуществовав все XVIII столетие, «живоподобное» направление претерпело определенную модификацию, но продолжало сохранять самостоятельность и не было оттеснено бурно развивавшейся живописной иконой, ориентированной на академические образцы в европейском духе. Направление это являло собой удачный компромисс между условностью древней манеры и натурализмом живописной, поэтому имело большое число приверженцев в русской дворянской и купеческой среде даже в первые десятилетия XIX века.
«Живоподобным» ликам на иконе присущи все особенности времени ее создания — они круглые, светлого розоватого оттенка, с активным румянцем. Изображая во внутренних уголках глаз красные слезники и обводя верхнее веко красной описью, мастер, тем не менее, не изображает ресниц. Наряду с техникой плави он местами использует штриховую манеру, известную как «отборка» и вошедшую в арсенал иконописцев на рубеже XVIII–XIX веков. В одеждах Христа использован традиционный золотой ассист, а разделки мафория Богоматери выполнены в тон более живописными приемами. Колорит иконы построен на сочетании оттенков красного и зеленого, что в известной степени отсылает к традиции Оружейной палаты. Реминисценции этой традиции в слегка адаптированном виде, во множестве присутствующие в данном произведении, также позволяют предположить его московское происхождение. Преемственность стиля, имеющего истоки в творчестве царских мастеров, была одной из определяющих характеристик Москвы как иконописного центра в Новое время.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Оборот, торцы и обрезы закрашены суриком, краска местами осыпалась. На лицевой стороне мелкие сколы по краям. Небольшие прописи по утратам по всей поверхности. Правая звезда на мафории прописана по остаткам авторского золота. Золотая обводка опуши усилена. Тонированные утраты золотого ассиста на одеждах Младенца. Небольшая пропись рядом с правой рукой Богоматери.
Богоматерь Боголюбская
Иоанн Предтеча

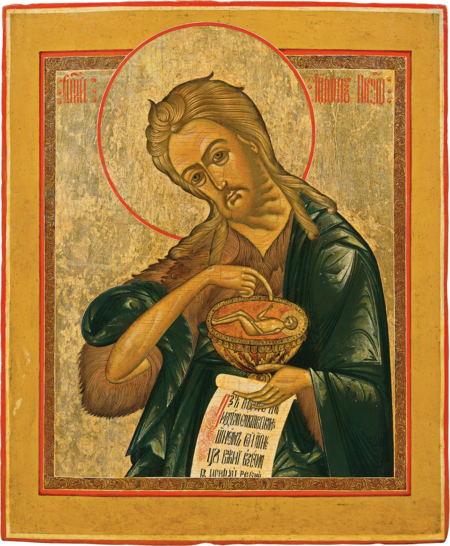
Слева: Богоматерь Боголюбская. Вторая четверть XIX века (до 1842 года). Владимирские иконописные центры. Справа: Иоанн Предтеча. Первая половина XIX века. Центральная Россия
Богоматерь Боголюбская
Вторая четверть XIX века (до 1842 года). Владимирские иконописные центры. 32,2×26,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография Богоматери Боголюбской восходит к византийскому типу Богоматери Агиосоритиссы (Заступницы). Первый образ с таким названием был написан на Руси для дворцовой Рождественской церкви в селе Боголюбове вскоре после 1157 года, когда, по преданию, Богоматерь именно в таком виде явилась во сне князю Андрею Боголюбскому. На иконе она изображена в трехчетвертном повороте, в молении к Христу, держащей в руках развернутый свиток; на верхнем поле размещен пятифигурный поясной Деисус. Древнейшая история образа неясна. Как чудотворный он стал почитаться не позднее первой половины XVI века, а списки с него доподлинно известны со второй половины столетия. Тогда же его иконография дополняется фигурами молящихся (преимущественно московских) святых, и этот вариант отделяется от изначального извода Богоматери Боголюбской с собственным названием «Моление о народе».
В конце XVII века, когда почитание иконы Богоматери Боголюбской приобретает общерусский характер, во владимирских землях начинают создаваться небольшие «раздаточные» списки с нее, на которых перед Богородицей нередко представлен коленопреклоненный князь Андрей Боголюбский. Немного позднее вырабатывается более строгий вариант иконографии без Андрея Боголюбского, но с Деисусом на верхнем поле. В сюжет иконы зачастую включается пейзаж с видом Боголюбова монастыря, что нередко является датирующим признаком, поскольку в изображениях монастыря довольно точно отражена его строительная история в XVIII–XIX веках. На публикуемой иконе монастырь показан весьма условно, но все же вполне узнаваемо. В центре квадратной в плане и с башнями по углам обители, обнесенной стенами, к которым пристроены жилые корпуса, стоит храм Рождества Богородицы. К нему слева примыкает перестроенный в 1756 году переход и нижний ярус башни, сохранившейся от дворцового комплекса XII века; по позднему преданию, в ней был убит Андрей Боголюбский. Такой вид обитель имела до кардинальных перестроек в середине XIX столетия, когда на ее территории были возведены в 1842 году колокольня, а в 1860-х годах собор в честь иконы Боголюбской Богоматери, которые неизменно присутствуют в изображении монастыря на подобных иконах второй половины XIX века.
На нижнем поле образа, в белом щитке, выполнена надпись, повествующая о чудесном явлении Богородицы князю Андрею Боголюбскому, строительстве Рождественского храма и основании Боголюбова монастыря. Подробный рисунок монастырского ансамбля, надпись и Деисус на верхнем поле дают основание полагать, что заказ иконы связан с Боголюбовым монастырем, а сама она выполнена в одном из центров иконописания во владимирских землях. Стиль живописи ее нельзя назвать типичным для владимирских сел, поскольку он связан не столько с традициями дониконовского письма, сколько представляет собой классицистическую редакцию направления официального иконописания. В то же время необходимо учитывать, что творчество владимирских мастеров было достаточно многообразно по своей стилистической палитре, и, кроме того, даже такие ориентированные на старую традицию центры, как Палех, не были чужды «романтическому» направлению с его любовью к поэтической трактовке пейзажа.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, на обороте две врезные встречные плоские шпонки. Небольшая восполненная трещина доски над верхней шпонкой в центре. По торцам и обрезам доски многочисленные гвоздевые отверстия от крепления утраченных оклада и рубашки. На лицевой стороне небольшая вертикальная трещина грунта по трещине доски. Тонированные сколы по краям. Тонировки по утратам красочного слоя. Потертости и тонированные утраты золота на нимбах, рамке, в разделках одежд и крыльях архангела Михаила.
Иоанн Предтеча
Первая половина XIX века. Центральная Россия. 42,6×33,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона входила в состав старообрядческого трехчастного Деисуса (см. кат. 39). Иоанн представлен на ней в самом простом из возможных для таких икон изводе — без ангельских крыльев и короны, одетый в милоть и гиматий. Изображение жертвенного Агнца-Христа в чаше акцентировано тем, что она не только снаружи, но и изнутри прописана красным полупрозрачным лаком. Прием этот нередко использовался в подобных произведениях, поскольку подчеркивал евхаристический смысл изображения. Икона, несмотря на неброскость своего колористического решения, очень продуманна и тонка по рисунку. Чрезвычайно оригинален прием разделок складок одежд, напоминающий штриховой узор, выполненный по мягким цветовым заливкам на тон светлее одежд. Не менее оригинальна рамка, отделяющая изображение от полей и имитирующая лузгу: орнамент на ней процарапан в коричневой краске, лежащей на золоте. Эти индивидуальные приемы, по-видимому, характеризуют один из центров старообрядческого иконописания.
Иоанн Предтеча. Фрагмент
Фигура Иоанна довольно хрупкая, голова же, напротив, большая, низко склоненная. Глаза большие и затененные, пальцы подчеркнуто вытянутые. Аскетичному облику пророка вторит очень сдержанный и приглушенный колорит, построенный на тонких цветовых градациях: волосы и милоть Иоанна почти совпадают по цвету, отличаясь лишь оттенком. Орнаментики в иконе мало, но она довольно акцентированная — примером тому может служить красная буквица в начале текста на свитке, процветшая тонким и обильным узором. Хотя лик Иоанна написан достаточно жестко, с применением графичных сухих белильных движков, в нем сохраняется ощущение округлости и даже некоторых реминисценций «живоподобного» стиля, проявляющихся, прежде всего, в изображении крупных круглых глаз Иоанна. Отголоски «живоподобия» в духе Оружейной палаты встречаются в стилистике отдельных центров старообрядческого иконописания, прежде всего Ветки. Публикуемая икона не может быть связана конкретно с этим центром, поскольку в ней нет характерной для ветковских произведений золотой орнаментики, ее колорит не яркий и пестрый, а очень сдержанный. Тем не менее, некоторая связь с Веткой все же прослеживается. Поэтому не исключено, что икона была написана среди старообрядцев, проживавших в юго-западном регионе России.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, на обороте две врезные сквозные шпонки с филенками. На торцах и обрезах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне тонированные вставки по нижнему краю, около плеч на местах крепления утраченного венца. Потертости, тонировки по утратам. Надписи усилены.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов
Спас Нерукотворный
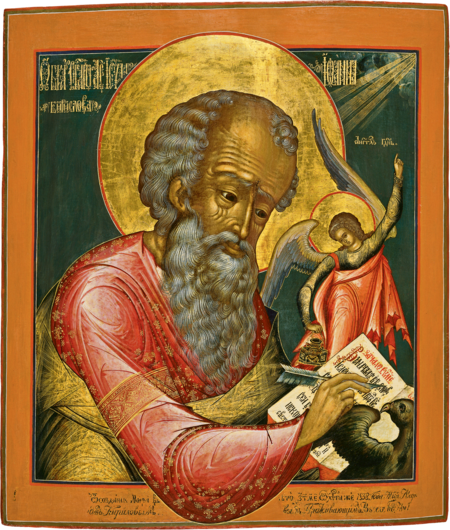

Слева: Апостол и евангелист Иоанн Богослов. 1838 год. С. Большое Мурашкино Нижегородской губернии. Справа: Спас Нерукотворный. 1845 год
Апостол и евангелист Иоанн Богослов
1838 год. Мастер Кириллов, с. Большое Мурашкино Нижегородской губернии. 51,7×44,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконография произведения очень оригинальна. Апостол и евангелист Иоанн Богослов изображен в момент написания первых строк своего Евангелия. Справа от него представлен его символ — орел, а также ангел, держащий чернильницу на цепочке. Традиция помещать рядом с евангелистами ангела, нашептывающего им слова евангелий, восходит к древности. Такие изображения были широко распространены в книжной миниатюре, встречаются они и на клеймах Царских врат иконостасов. Ангелы писались при этом со звездчатым нимбом Софии Премудрости Божией. В Позднем Средневековье подобные композиции практически выходят из употребления.
На публикуемой иконе у ангела обычный нимб; левой рукой он указует на три золотых луча, исходящие с небес, что символизирует Божественное откровение, полученное Иоанном на Патмосе. Такая композиция практически не имеет аналогов в поздней иконописи и связана с какими-то местными иконографическими традициями, возможно, следует чтимому образу. Любопытная деталь — выходящий за пределы композиции и провисающий над нижним полем рукав хитона евангелиста, что зрительно размыкает пространство изображения вовне. Не менее интересен стиль живописи иконы, также не имеющий аналогов среди памятников своего времени. Лик написан с явными реминисценциями «живоподобного» письма в духе Оружейной палаты, однако цвет его очень темный, типаж остро индивидуальный, тщательно и подробно переданы морщины. Исключительно тонко наведены седины в волосах и бороде апостола, равно как и золотые узоры на его одеждах. Колорит иконы довольно сумрачный, чему способствует использованный художником темно-синий фон.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Фрагмент
По-видимому, такая манера письма была характерна для одного из центров иконописания Нижегородской губернии — села Большого Мурашкина Княгининского уезда, указанного в подписи на иконе, об иконописной традиции которого, так же как и о работавших там в XIX веке мастерах, сведения в настоящее время не обнаружены. Икона из представленного собрания имеет большое научное значение для выявления и дальнейшего изучения этого центра. Учитывая написание даты на иконе в двух системах исчисления, а также архаизирующий характер иконографии и живописи работы, можно предполагать некоторую связь автора со старообрядцами, которых в Нижегородской губернии проживало очень много. Известно, что в Большом Мурашкине были выстроены две каменных единоверческих церкви — Покровская (1841) и Никольская (1886), что прямо указывает на распространенность старообрядчества в этих местах.
Сохранность. Доска без ковчега, очень тонкая, из трех частей, две врезных сквозных шпонки на обороте утрачены. Доски покоробились, склеены при реставрации. Оборот закрашен темной краской. На торцах и обрезах единичные гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления оклада. На лицевой стороне тонированные вставки на нижнем поле, поля прописаны за исключением фрагментов с подписью. Узкие вставки с реконструкцией живописи по стыкам досок правее центра и слева вдоль линии разгранки. Вставка около плеча Иоанна по ожогу, небольшая вставка на пальцах правой руки у ангела. Золото на нимбах частично переложено с наведением искусственного кракелюра. Золотые узоры одежд усилены, а на местах утрат выполнены заново. Надписи на фоне и лучи в правом верхнем углу прописаны. Потертости золотых разделок одежд, местами затонированные. Мелкие прописи по утратам по всей поверхности. Остатки старого покрытия.
Спас Нерукотворный
1845 год. Иван Шихов. 52×41 см. Дерево, грунт, масло. Происхождение неизвестно, приобретена в Санкт-Петербурге. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконография образа отдаленно восходит к изводу, разработанному в русской иконописи в середине XVII века Симоном Ушаковым: плат изображен на темном фоне, его верхние углы завязаны в узлы, края ткани уложены складками. В то же время связь с традицией здесь уже очень опосредованна: икона выполнена в свободной живописной манере с использованием масляной техники, что предполагает достаточный простор для художника как в иконографии, так и при выборе приемов письма.
Живописная икона в масляной технике появляется в России в конце XVII века, но по-настоящему становится одним из ведущих направлений в иконописании только с середины XVIII столетия в Санкт-Петербурге. Развитию этой стилистической линии во многом способствовало учреждение в 1757 году Академии художеств, где со временем появился иконный класс. Обучение в нем велось в русле художественных принципов европейского искусства, отличие от светских жанров наблюдалось лишь в сфере иконографии, сохранявшей некоторые традиционные черты. В XVIII столетии живописная икона была востребована наиболее просвещенными слоями русского общества, прежде всего столичным дворянством. Но в XIX веке ее географическое и социальное бытование значительно расширилось, поскольку в это время такая манера внедрялась в иконописную практику тех городов и губерний Российской империи, в которых отсутствовали древние традиции иконописания. Особенно это касалось южных губерний и Сибири.
Автор публикуемой иконы стремился, с одной стороны, подражать академическим канонам живописи, с другой — наделил вполне натуралистично выписанный лик некоторой условностью и идеальностью, которые считал неотъемлемым признаком церковного образа. Та же степень стилизации присуща и авторской подписи, выполненной внизу на абстрактном фоне под платом в двух вариантах палеографии — архаизирующей и современной. Типаж лика, которому в выражении придана некоторая доля «сладостности», очень характерен для изобразительного искусства эпохи бидермейера в России. О художнике Иване Шихове сведений биографического характера не выявлено. Очевидно, он был городским мастером и работал в регионе, где живописная манера иконного письма была широко распространена и пользовалась популярностью у заказчиков.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. Утраты древесины на шпонках. На лицевой стороне грунтовая трещина по стыку досок и по трещине доски внизу справа. Внизу в центре тонированная вставка по ожогу доски, заходящая на надпись. Тонировки по сколам на краях. Незначительные тонированные утраты красочного слоя и механические повреждения. Слева на фрагменте надписи и по краю выше центра оставлены фрагменты старого покрытия.
Великомученик Никита, побивающий беса
Иоанн Предтеча, с житием


Слева: Великомученик Никита, побивающий беса. Первая половина XIX века. Ярославские земли. Справа: Иоанн Предтеча, с житием. Вторая четверть — середина XIX века. Ярославль (?)
Великомученик Никита, побивающий беса
Первая половина XIX века. Ярославские земли. 30,8×35,2 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Великомученик Никита (ум. 372) — гот по происхождению, служивший в готском войске. Согласно житию, во время междоусобной войны вождя-язычника Атанариха с вождем-христианином Фритигерном Никита помогал последнему, проповедью обращая в христианство своих соплеменников. Фритигерн после временного поражения собрал войско в Греции и разбил Атанариха на берегах Дуная, приказав носить перед войском изображение креста. Но через некоторое время язычники вновь одержали верх, и Атанарих стал жестоко преследовать всех христиан. Св. Никита был схвачен и предан мучениям. После истязаний его бросили в огонь, однако и после гибели тело святого не повредилось. Остававшееся без погребения, оно вскоре было перенесено его другом Марианом в город Мопсуестию в Киликии. Затем мощи св. Никиты перенесли в Константинополь.
Великомученик Никита, побивающий беса. Фрагмент
На Руси помимо канонического Жития святого Никиты широко бытовало апокрифическое житие — «Никитино мучение, что сын царев Максимианов и беса мучил», относящееся к одному из раннехристианских мучеников по имени Никита, который праздновался в один день с Никитой Готским. Смешение двух разных житий св. мучеников началось еще на греческой почве. Эпизод победы над бесом из апокрифического жития стал источником эпитета для св. Никиты — Бесогон. Сюжет с избиением св. Никитой беса был очень распространен в древнерусском искусстве в XVI веке. В Новое время он сохраняет популярность в старообрядческой среде, где, по всей очевидности, и создана представляемая икона. Стиль ее письма очень интересен и несет в себе черты разных традиций. Так, в орнаментации архитектурных форм, в частности баз и капителей колонн, чувствуется знание мастером образцов самого высокого уровня палехского иконописания первой половины XIX века. В то же время художественный язык иконы совершенно иной по духу, отличается форсированностью художественных средств, подчеркнутой рисуночной основой изображения, довольно глухим колоритом, контрастирующим со сплошным золочением полей. По манере живописи публикуемый памятник близок хранящейся в собрании В. Н. Федотова иконе на редкий сюжет «Обретение мощей благоверных князей Феодора, Давида и Константина Ярославских». Сюжет этот, несомненно локальный, встречающийся только в ярославских землях, позволяет связать оба произведения с Ярославлем или, скорее, с одним из центров позднего иконописания в ярославских землях.
Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. На лицевой стороне мелкие вставки на нижнем поле. Потертости и утраты золота, местами тонированные. Реконструкция живописи по утрате на лике и одеждах Христа. Тонировки по утратам красочного слоя, особенно на одеждах. Надпись на верхнем поле усилена.
Иоанн Предтеча, с житием
Вторая четверть — середина XIX века. Ярославль (?). 45×35,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Житийные иконы Иоанна Предтечи известны в русской иконописи с рубежа XIV–XV веков, иконография их необычайно развита и разнообразна. В ее основе лежит большой корпус текстов — канонические Евангелия, житие святого, многочисленные слова на дни его памяти, литературные памятники, посвященные обретениям мощей, «Слово Евсевия о сошествии св. Иоанна Предтечи в ад», славянские сказания о чудесах. Наиболее подробные житийные циклы Иоанна Предтечи относятся к XVII веку. Публикуемая икона, несмотря на небольшие размеры, содержит довольно занчительное количество клейм, отражающих все важнейшие события жития святого, включая все три обретения его главы, каждому из которых посвящено особое клеймо, что бывает нечасто. Кроме того, обычно очень близкие по схеме изображения первого и второго обретения имеют здесь совершенно индивидуальные композиции.
То, что памятник происходит из Ярославля, позволяет предполагать, что он создан мастером, принадлежавшим к поздней ярославской художественной традиции. В стиле живописи иконы явственно чувствуется влияние палехской манеры письма, которой художник стремился подражать в рисунке горок, абрисах фигур и т. п. Тем не менее, масштабные соотношения в композициях совсем иные — фигуры укрупнены и плотно заполняют пространство. Иначе, гораздо пластичнее, выполнены лики. Само письмо носит более живописный характер, нежели у палешан. Ярче всего это демонстрируют пейзажные фоны, особенно в среднике. Помещенные в романтический пейзаж, у ног Иоанна изображены звери, живо напоминающие некоторые образцы ярославской живописи конца XVIII века.
Колорит иконы насыщенный, немного пестрый и довольно приглушенный; это ощущение усиливают темно-зеленые поля. Очень активно и контрастно звучит желтый цвет, вносящий своеобразный диссонанс в красочную палитру мастера. Такие тенденции характерны для времени около середины XIX столетия. Публикуемая икона писалась, по-видимому, как образ патронального святого. По воле ее заказчика на полях были помещены многочисленные дополнительные изображения. Слева представлены мученица Варвара, апостол Матфей, праведная Елизавета, мученица Пелагия и преподобная Мария. Справа — образ Богоматери Нечаянная Радость, преподобные Петр Афонский, Марфа, Матрона и мученица Татьяна. Помещение среди избранных святых богородичной иконы весьма оригинально. Возможно, это отклик на прославление образа с таким названием в московском храме Неопалимой Купины на Девичьем поле, первое чудо от которого произошло в 1835 году.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, немного покоробленная. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Вставка с реконструкцией живописи на нижнем поле и в нижней части центрального клейма нижнего ряда. Потертости золота, тонировки по утратам. Надписи правлены, местами с ошибками.
Богоматерь Казанская, с клеймами сказания
Алексий человек Божий, с житием
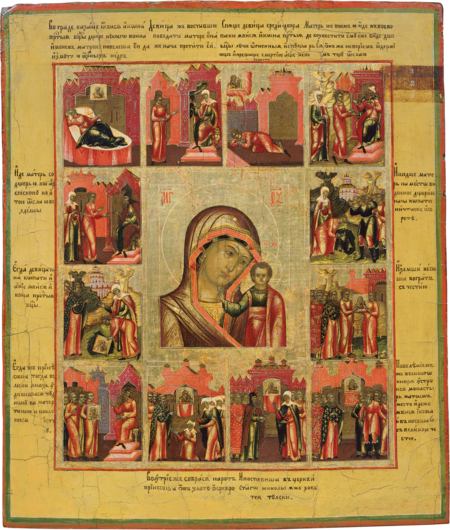

Слева: Богоматерь Казанская, с клеймами сказания. Середина XIX века. Палех. Справа: Алексий человек Божий, с житием. Около середины XIX века. Палех
Богоматерь Казанская, с клеймами сказания
Середина XIX века. Палех. 31,5×27,7 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.
Один из самых почитаемых в России чудотворных образов — икона Богоматери Казанской — был найден в 1579 году в Казани десятилетней дочерью стрельца Данилы Онучина Матроной в земле. Это событие в 1594 году описал в особой Повести митрополит Казанский, впоследствии патриарх Московский и всея Руси Гермоген. Первый список с явленной иконы, согласно Повести, был сделан в том же 1579 году и отправлен в Москву царю Ивану Грозному. В 1611 году, в Смутное время, под Москву, занятую поляками, из Казани был принесен список с явленного образа, находившийся сначала в первом земском ополчении, а затем во втором — Кузьмы Минина и князя Д. М. Пожарского при освобождении Москвы в 1612 году. Царь Михаил Федорович установил празднование образу дважды в году — на день явления и день освобождения Москвы. В 1649 году царем Алексеем Михайловичем установлено общерусское празднование Казанской иконе Богоматери. Впоследствии прославились и многие другие списки с чудотворного образа.
Иконы, иллюстрирующие Повесть об обретении образа, известны со второй четверти XVII века. Первоначально это были большие храмовые образы, но в Новое время их стали создавать и для домашнего бытования. Иконы Казанской Богоматери со Сказанием стали одним из излюбленных сюжетов иконописцев Палеха, в них обычно присутствовало двенадцать или шестнадцать клейм. Сохранившиеся памятники на этот сюжет, созданные палехскими мастерами, свидетельствуют о большой востребованности в русском обществе таких икон, а также о глубоком почитании их первообраза1. Публикуемая икона принадлежит к числу этих произведений и несет в себе все признаки принятой в Палехе манеры письма. Лик Богородицы выполнен очень тонко, с соблюдением всех традиций — охряными плавями по санкирю, оживленными подрумянкой и белильными движками. Насыщенный, немного темный колорит отражает общие тенденции развития стиля палехских изографов и позволяет датировать икону серединой XIX столетия.
Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей, скреплена с оборота двумя врезными встречными филенчатыми шпонками. На обороте небольшие трещины доски под нижней и над верхней шпонками. На лицевой стороне небольшой скол в правом верхнем углу. В нижних углах и по нижнему краю обширные тонированные вставки, частично заходящие на надписи к клеймам. Менее значительные вставки на верхнем поле. Потертости и утраты золота на фоне, восстановленные при реставрации твореным золотом. Реставрационные тонировки и прописи по утратам красочного слоя и золотым разделкам одежд. Надписи правлены, местами с ошибками. Справа на поле оставлен фрагмент с тремя слоями покрытия и записи.
Алексий человек Божий, с житием
Около середины XIX века. Палех. 35,8×30,8 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Святой Алексий человек Божий (ум. ок. 411, память 17 (30) марта) — римский подвижник, живший при императорах Аркадии и Гонории. Родившийся в знатной и богатой семье, он в день свадьбы неожиданно покинул Рим, отправился в Малую Азию и там подвизался с нищими в городе Эдессе, где, согласно древнейшему сирийскому житию святого, и умер. По греческой версии жития, он через некоторое время неузнанным вернулся в родной дом, жил в нем много лет как последний слуга и скончался, открыв домочадцам перед смертью тайну своего происхождения. Мощи святого покоятся в посвященном ему храме на Авентинском холме в Риме. Там же хранится икона Богоматери Эдесской, перед которой по преданию св. Алексий молился в Эдессе. В древнейшем сирийском житии, составленном пономарем храма в Эдессе, где пребывал св. Алексий, имя святого не названо. Этот текст позднее был переведен на латынь, а в IX веке стал известен в Византии, причем в греческом варианте жития святой получил имя — Алексий. Славянский перевод, выполненный в конце XI века, соединил византийскую и латинскую традиции жизнеописания святого. В России святой Алексий человек Божий стал очень популярен в XVII веке, поскольку являлся небесным покровителем царя Алексея Михайловича. В связи с этим получили широкое распространение иконы святого, в том числе и житийные, а Арсений Грек в 1659 году сделал новый русский перевод его жития.
В Новое время почитание Алексия человека Божия уже не носило «государственного» оттенка, и его иконные изображения, созданные в XVIII — начале XX века, — это, в большинстве своем, тезоименитые образы частного заказа, к числу которых принадлежит и представленная икона. В ней отразилась характерная особенность, появляющаяся в небольших житийных иконах Нового времени, когда явственно наметилась тенденция к сокращению сцен, повествующих о жизни святого, до минимума — не более четырех, а то и всего две. Соответственно, житийное повествование в иконе уже не столько следовало литературному житию, сколько превратилось в формальное напоминание об основных вехах биографии святого. В частности, в публикуемой иконе в качестве сюжетов клейм взяты такие события из жизни святого Алексия, как рождение, крещение, возвращение в родительский дом и кончина. Из них только третий сюжет носит индивидуальный характер, в то время как три остальных могут присутствовать в изобразительном житийном цикле любого христианского святого. Композиционная схема иконы, где житийные клейма попарно помещены по сторонам от фигуры святого внизу, была очень устойчивой и часто встречается в памятниках XIX века, особенно среди произведений, созданных в иконописных селах Владимирской губернии, прежде всего в Палехе. В целом она восходит к традициям поволжской иконописи конца XVII–XVIII веков, когда житийные сцены в свободном порядке помещались в архитектурных палатах или в пейзаже на поземе рядом с фигурой святого. В XIX веке владимирские мастера придали этой схеме бóльшую регулярность и традиционность, замкнув отдельные сцены повествования в изолированных друг от друга квадратиках-клеймах.
В облике святого, одеждах и позе автор точно следует его иконографии. В клеймах используются отработанные и унифицированные композиционные схемы; так, рождение святого Алексия изображено в соответствии с иконографией Рождества Богородицы. В то же время в сцене крещения, в целом абсолютно традиционной, присутствует любопытная деталь — младенец в купели припадает к руке священника. Третье клеймо наиболее подробно с точки зрения повествовательности, поскольку соединяет сразу две сцены — путешествие Алексия на корабле по морю и встречу с отцом. Стиль живописи иконы не оставляет сомнения в том, что она была создана в Палехе. Наиболее ярко особенности классической палехской манеры письма проявились в клеймах (характерные разделка горок и архитектурные фоны, рисунок мелкой орнаментики на одеждах и деталях архитектуры, светлый и чистый колорит, личное письмо, следующее образцам строгановского). Средник же имеет ряд отличий, которые позволяют довольно уверенно датировать памятник серединой XIX века. Это появляющийся в тот период густой, но пока еще светлый зеленый фон (а также зеленые поля), не совсем типичная живописная трактовка пейзажа, более сложная пластическая разработка личного письма с выраженной подрумянкой и, наконец, сам тип лика святого — умильный, с крупными круглыми глазами, отдаленно, но вполне ощутимо отражающий эстетику эпохи бидермейера.
Сохранность. Доска кипарисная, цельная, без ковчега. Скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обороте склеенная трещина доски по текстуре древесины. В центре помета «32». На лицевой стороне потертости и утраты золота, местами тонированные. Незначительные прописи на фоне и на полях.
Сретение
Вход в Иерусалим

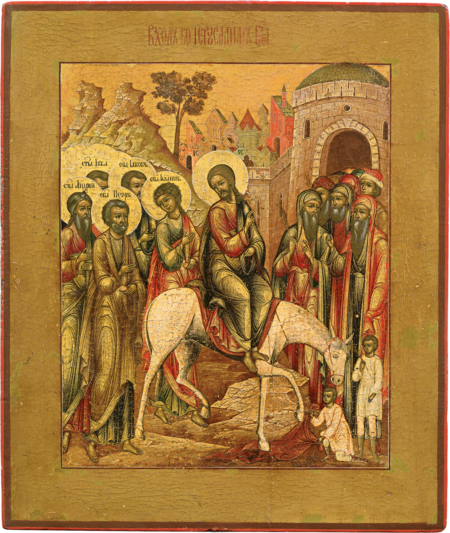
Слева: Сретение. Середина — третья четверть XIX века. Владимирские иконописные центры. Справа: Вход в Иерусалим. Последняя четверть XIX века. Палех
Сретение
Середина — третья четверть XIX века. Владимирские иконописные центры. 30,8×26,2 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Во второй половине XIX века мастера владимирских иконописных сел, работавшие в традиционном направлении иконописания, не остались безучастными к общим художественным тенденциям, проявляющим себя в русском церковном изобразительном искусстве того времени. Воздействия, идущие извне, сказывались, прежде всего, в изменении колорита, все более тяготевшего к темным и приглушенным тонам. В рамках традиционного письма стали появляться новые детали, пришедшие из академической живописи, что прежде всего отразилось в изображении позема — он получает редакцию в виде выложенного плитами пола. Деталь эта проявит себя в полной мере позднее в памятниках, стиль которых уже более открыто сочетал приемы традиционного письма с адаптированным академизмом.
Публикуемая икона находится в самом начале этого пути. Она еще абсолютно традиционна по своему художественному языку, но в то же время некоторые детали обращают на себя внимание. Художник использует классическую композицию Сретения с асимметричным решением: справа у храмового престола со скрижалями Завета на ступенчатом подножии стоит Симеон Богоприимец с Младенцем Христом на руках. Слева к нему подходят Богоматерь, Анна Пророчица и праведный Иосиф — в руках у него традиционная клетка с двумя птицами. Весь задний план закрывают архитектурные постройки условной формы, покрытые разноцветным узором. Интересно, что узоры выполнены уже не только белилами, но и приглушенными красками — охрой, коричневым. Колорит в целом кажется более тяжелым и темным по сравнению с памятниками первой половины XIX столетия. Даже рубашечка на Младенце изображена не белой, как было принято, а розовой.
Общепринятый художественный язык проявляет себя в письме ликов, написанных при этом довольно объемно. Выражение ликов традиционно нейтрально, за исключением Анны Пророчицы — ее взор приобретает неожиданную в иконе остроту. Ряд деталей — мощеный каменными плитами пол, остроносая черная обувь на ногах Богородицы и Анны, а также темный платок с многочисленными складками, которым закутана верхняя часть фигуры Пророчицы, — вносят диссонансную натуралистическую ноту в общий контекст. В них проявляется воздействие изобразительных формул исторической академической живописи того времени. Икона несет в себе все признаки стиля владимирских мастеров, возможно, она была написана в Палехе, но утверждать это довольно трудно в связи с размытостью традиционных для него художественных приемов.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Верхняя шпонка утрачена. Незначительные тонированные вставки на полях. Потертости и мелкие утраты золота. Незначительные тонировки по утратам.
Вход в Иерусалим
Последняя четверть XIX века. Палех. 31,2×26 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
На протяжении почти всего XIX века характерный художественный язык палехских мастеров, сложившийся в последней трети XVIII столетия, претерпел заметную эволюцию, хотя и оставался верен своим основополагающим принципам и по сути был явлением консервативным. Палех не переставал считаться ведущим центром иконописания в традиционном стиле, но в то же время на него не могла не оказывать косвенное влияние художественная жизнь страны в целом. Кроме того, во второй половине XIX столетия палешан часто приглашали работать над созданием иконостасов и храмовых росписей в различных регионах России, что также способствовало размыванию принципов палехской манеры письма. Именно вне Палеха местные художники впитывали и реализовывали те стилистические черты, которые связывали их произведения с адаптированной академической манерой. Наиболее яркие плоды такого сочетания можно видеть в выполненных артелью Н. М. Софонова стенописях многочисленных разбросанных по России храмов. Условная графичная передача фигур в сочетании с округлыми ликами, в типаже которых угадывается влияние академизма, а позднее модерна, рождают стилистический симбиоз, характерный для поздней палехской манеры.
Вход в Иерусалим. Фрагмент
Публикуемая икона наглядно отражает процессы, протекавшие в палехском иконописании в последней четверти XIX века. Композиция ее предельно традиционна и не содержит никаких особенных черт. В центре на белом осле восседает Христос, повернувшийся вполоборота к идущим за ним апостолам. Эту группу уравновешивает процессия жителей Иерусалима, выходящая навстречу Христу из городских ворот. На переднем плане мальчики в белых рубашках стелют под ноги осла дорогие ткани. Обращает на себя внимание довольно сумрачный коричнево-зеленый колорит, оживляемый пятнами красного, лилового и темно-синего. Пропорции фигур относительно вытянутые, лики написаны тщательно и в палехских традициях, но тип их уже отличен от палехского — глаза стали крупными, хорошо проработанными, а сами лики пластичными и округлыми. Горки также утратили типичную для Палеха форму, а позем на переднем плане, несмотря на всю свою условность, отчасти напоминает натуралистичные каменистые почвы на картинах академических художников. Попытавшись весьма осторожно соединить традиционную манеру с чертами академизма, Палех к концу XIX столетия утратил ведущее положение среди иконописных центров Владимирской губернии, уступив лидерство Мстёре, где активно и успешно вырабатывалось новое направление, основывавшееся на принципах древней живописи, но соответствовавшее идеям и эстетическим запросам своего времени.
Сохранность. Доска без ковчега, изначально дублированная, обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Дублировочная доска из двух частей. Трещины на обороте над верхним и под нижним шпоночными пазами. На торцах и обрезах многочисленные мелкие гвоздевые отверстия от крепления тканевой рубашки. На лицевой части доски трещина внизу правее центра с грунтовой трещиной по ней. Небольшие тонированные чинки по краям и на полях. Многочисленные мелкие утраты краски по всей поверхности. Потертости красочного слоя. Утраты золота в разделках затонированы.
Крестный путь
Успение (в окладе)


Слева: Крестный путь. Середина XIX века. Иконописные центры Владимирской губернии. Справа: Успение (в окладе). 1860-е годы. Владимирские иконописные села. Москва
Крестный путь
Середина XIX века. Иконописные центры Владимирской губернии. 38,3×31,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона создана на редчайший в русской иконописи сюжет и представляет эпизоды Крестного пути Спасителя из Претории на Голгофу. Это так называемые станции — события, случившиеся во время остановок Христа на этом пути в определенных местах Иерусалима. Традиция изображения станций широко распространена в католическом мире. Во второй половине XVII века она оказала определенное влияние на появление в русском высоком иконостасе страстного ряда, где тематический и хронологический охват событий был несколько шире — от моления Христа в Гефсиманском саду до положения во гроб.
Иконографический образец произведения нужно искать, по-видимому, среди западноевропейской печатной графики или в иллюстрированных проскинитариях — путеводителях по Святой Земле. Оно имеет единственную известную аналогию среди русских памятников — икону из собрания В. М. Федотова, написанную в конце XVIII — начале XIX века, очевидно, холуйским мастером. На ней, в отличие от публикуемого памятника, каждая сцена сопровождается пояснительной надписью, где называются порядковые номера остановок на Крестном пути. Рассказ о событиях начинается в левом нижнем углу, затем переходит во второй регистр и идет слева направо. Далее, в третьем регистре, сцены вновь разворачиваются в обычном порядке, так же, как и в последнем, верхнем ряду. Их сюжетная последовательность такова: 1. Суд Пилата; 2. Христос принимает свой Крест; 3. Первое падение Христа; 4. Встреча Христа с Богоматерью; 5. Симон Киринейский помогает нести Крест; 6. Вероника отирает пот с лица Христа; 7. Второе падение Христа; 8. Христос обращается к иерусалимским женам; 9. Третье падение Христа; 10. Воины совлекают с Христа багряницу; 11. Пригвождение к Кресту; 12. Распятие и смерть Христа; 13. Снятие с Креста; 14. Положение во гроб.
Крестный путь. Фрагмент
Оба памятника чрезвычайно близки по композиции, не считая мелких деталей, таких как формы архитектуры, пейзажа и т. п. Очевидно, что они выполнены с единого образца, бытовавшего, судя по всему, у мастеров некоторых владимирских иконописных сел. Икона из собрания В. М. Федотова выполнена в упрощенной барочной стилистике, что позволяет связать ее с традицией Холуя. Публикуемый памятник также, возможно, связан с Холуем, но создан в более позднее время, на что указывает стиль его живописи, колорит и характер рисунка. Некоторая скорописность исполнения говорит в пользу холуйского происхождения иконы, однако не исключено, что ее создание связано с каким-либо другим центром иконописания Владимирской губернии.
Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей, на обороте две врезные сквозные шпонки с филенками. Шпонки подвижны. Растрескивание древесины по верхнему и нижнему краю. На обрезах и торцах остатки гвоздей и гвоздевые отверстия. Тонированные вставки на полях и рамке лузги. Вверху вставки заходят на изображение гор, живопись на них реконструирована. Небольшие вставки с реконструкцией в поле ковчега. Надпись на верхнем поле выполнена по остаткам старой. Золото на фоне новое. Тонировки по утратам.
Успение (в окладе)
Икона — 1860-е годы. Владимирские иконописные села. Оклад — 1866 год. Иван Егоров, Москва. 31,5×25,5 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение, эмаль по оборону. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография образа принадлежит к развернутому варианту Успения Богоматери в редакции XVII века, но ей присущи и те особенности, которые отражают общие художественные тенденции XIX века. Основное ядро композиции — ложе Богородицы и стоящие по сторонам двумя группами апостолы — заметно вытянуто по горизонтали, причем впереди стоящие фигуры полностью закрывают остальных. Только по сторонам мандорлы Христа, возвышающегося за ложем Богородицы, из-за их плотных групп выглядывают вверху еще две согбенные фигуры апостолов, данные в масштабном перспективном сокращении. Количество апостолов превышает двенадцать; очевидно, иконописец обозначил присутствие при событии апостолов от 70-ти. На переднем плане видна широкая полоса пола «в шахмат», занимающего довольно много места в композиции и рождающего впечатление ее растянутости вширь. Даже запечатленное перед ложем Богоматери чудо с нечестивым Авфонией, которому архангел Михаил отсекает руки, не вынесено на передний план и не нарушает его плоскостной трактовки. Изображение отличается большой симметричностью, лишено второстепенных деталей. Эти особенности косвенно отражают воздействие академической художественной традиции даже на такую консервативную сферу, как старообрядческая иконопись.
Для живописи иконы характерна дробная проработка деталей, особенно в орнаментике архитектуры, и графичность рисунка. Лики написаны достаточно просто, без активной пластической разработки. Колорит, несмотря на широкую цветовую гамму, довольно приглушенный, лики темные. Все эти особенности типичны для стилизаторской старообрядческой живописи середины XIX века и позволяют связать произведение с иконописными центрами Владимирской губернии, скорее всего со Мстёрой. Оклад, закрывающий поля иконы, стилистически созвучен ей. Он также выполнен в подражание древности — с использованием орнамента, типичного для XVII века, который плотным измельченным узором заполняет его рамку. Такие оклады были популярны именно в старообрядческой среде.
Сохранность. Икона. Написана на старой доске. Основа цельная, с ковчегом, на обороте две врезные встречные шпонки, замененные во время написания иконы. На лицевой стороне вставка с реконструкцией живописи по нижнему краю изображения. Тонировки по утратам на ликах Христа, Богоматери и некоторых апостолов. Авторские надписи в значительной степени утрачены. Тонированные утраты золота. Оклад. Незначительные деформации и разрывы металла. Потертость золочения. Патина.
Господь Вседержитель (оплечный)
Богоматерь Корсунская


Слева: Господь Вседержитель (оплечный). Середина — вторая половина XIX века. Центральная Россия. Справа: Богоматерь Корсунская. Вторая половина XIX века. Ярославская провинция
Господь Вседержитель (оплечный)
Середина — вторая половина XIX века. Центральная Россия. 72×61 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Санкт-Петербурге. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Краткий оплечный или оглавный вариант изображения Христа Вседержителя, восходящий к византийским чтимым образам, известен в русской иконописи с домонгольского времени, но особо распространился в XIV–XVI столетиях. Тогда было создано значительное число таких икон, как больших храмовых, так и маленьких, рассчитанных на домашнее бытование. В Новое время именно эти образы стали особо любимы старообрядцами. Они старались приобрести для своих молелен древние московские и новгородские иконы данного типа, которые в их среде получили название «Спас Ярое око». В молельнях старообрядцев беспоповского согласия такие иконы помещались в центре вместо Царских врат. У старообрядцев-поповцев они также пользовались большим уважением и почитанием и им нередко приписывали древнее византийское происхождение.
Старообрядцы не только собирали древние памятники, но и писали собственные новые иконы на этот сюжет. Каждая из них, очевидно, восходит к какому-то почитавшемуся в этой среде старому образу. Публикуемая икона из числа подобных списков, на что указывает, прежде всего, стиль ее живописи. Манера исполнения лика — достаточно сухая и графичная — воспроизводит приемы древнего письма, в то время как темный колорит, насыщенный зеленый фон, приглушенный оттенок вохрения создают впечатление древности первообраза, которую художник хотел отразить в своем произведении. Трудно сказать, какой именно памятник служил образцом здесь. Иконографически списку из собрания Виктора Бондаренко наиболее близок образ из Покровского собора на Рогожском кладбище, но рисунок одежд здесь другой, без каймы, идущей по горловине хитона Христа. Икона была исполнена по частному заказу, о чем свидетельствуют изображенные в киотцах на полях дополнительные святые — мученики Феодор Тирон и Дарья, очевидно, небесные покровители заказчика и его супруги.
Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, из четырех частей. На обороте две врезные встречные высокие шпонки. На лицевой стороне вставка на нижнем поле, заходящая на изображение. На изображении по вставке реконструкция живописи и рисованный кракелюр. Аналогичные вставки выше на шее и на бороде Христа. Небольшая тонированная вставка по верхнему краю, мелкие вставки по краям. Следы химического воздействия на волосах и нимбе справа. Небольшие прописи по утратам.
Богоматерь Корсунская
Вторая половина XIX века. Ярославская провинция. 37,4×32 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Под именем Корсунской на Руси бытовали богородичные иконы разного иконографического типа, которые связывала легенда о происхождении из древней Корсуни, отразившаяся в их названии. В строгом смысле Корсунская — это оплечный вариант иконографии Умиления, встречающийся в русской иконописи с XVII века, после Смутного времени. Истоки сложения данного типа не совсем ясны. Н. П. Лихачев и Н. П. Кондаков полагали, что он берет начало в поствизантийской итало-критской иконописи конца XV века, однако в действительности он стал известен грекам позже, чем на Руси, и, очевидно, под русским влиянием.
Извод этот никогда не был строго унифицированным. Уже в XVII веке встречаются иконы как прямого, так и зеркального варианта изображения. Существовали и мелкие различия в деталях композиции, касающиеся положения рук Богородицы и Младенца, наличия или отсутствия в его ручке свитка. Со временем, в рамках Корсунского извода Богоматери появились варианты с собственными названиями, связанными с местно прославившимися иконами данного типа. В основном процесс дробления иконографии и рождения новых именований внутри данного типа пришелся на XVIII век, когда появились и прославились Касперовский, Горбаневский, Девпетерувский, Дегтяревский и другие образы Богоматери. Корсунские иконы высоко ценились старообрядцами в силу легенды, возводившей первообраз к первым годам существования христианства на Руси. В их среде появился свой чтимый образ и вариант иконографии Богоматери с названием Днепрская. Ряд икон, проявивших себя чудотворениями, сохранил исходное название. Так, под именем Корсунской уже с 1642 года почитался богородичный образ такого извода в храме села Пилатики Романовского уезда Ярославской губернии. Четкие отличия одного варианта от другого в рамках иконографического типа выделить чрезвычайно трудно, поэтому списки с различных чтимых икон далеко не всегда могут быть идентифицированы. Касперовская Богоматерь и некоторые другие сохраняли классический вариант изображения Корсунской Богоматери, где Младенец держит в ручке свиток. В то же время в отдельных изводах с новым собственным названием закреплялись некоторые композиционные отличия: так, на Девпетерувской и Дегтяревской иконах Богоматери свиток уже не изображался.
Богоматерь Корсунская. Фрагмент
Публикуемый образ представляет собой зеркальный вариант иконографии, где Младенец изображен слева от Богородицы. На нем имеется авторская надпись, именующая образ Богоматерью Корсунской. Это означает, что его прототип был известен под исходным названием извода. Икона очень неожиданна по своему художественному решению. Оригинален ее холодноватый колорит, в котором заметную роль играет интенсивный синий цвет. Рисунок подчеркнуто острый. В изображении ликов есть иллюзия объема благодаря обильному использованию белил в их моделировке, а в орнаментике применен прием практически пастозного наложения краски, особенно в имитации жемчуга по контурам нимбов. Живопись иконы поражает нарочитой резкостью и грубоватой выразительностью художественного языка — качествами, редко встречающимися в поздней иконописи. Учитывая ее ярославское происхождение, можно предположить, что она была создана в мастерских села Гаврилов Ям Ярославской губернии, мало изученного в настоящее время иконописного центра Нового времени, стилистика произведений которого отличалась большой экспрессивностью. В таком случае икона может быть, скорее всего, списком с местной ярославской святыни — образа Корсунской Богоматери из села Пилатики.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, скреплена с оборота двумя врезными сквозными шпонками гладкой формы со стесанными углами. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от утраченного оклада. На лицевой стороне потертости золота на фоне, местами тонированные. Мелкие утраты красочного слоя.
Крест-распятие, с иконой Богоматери Утоли моя печали, собором Архангелов и избранными святыми
Перенесение мощей святителя Никифора Константинопольского


Слева: Крест-распятие, с иконой Богоматери Утоли моя печали, собором Архангелов и избранными святыми. XIX в. Мстёра. Справа: Перенесение мощей святителя Никифора Константинопольского. XIX в. Мстёра
Крест-распятие, с иконой Богоматери Утоли моя печали, собором Архангелов и избранными святыми
Икона — Середина XIX века. Мстёра. Крест-распятие — конец XVIII века. Выг. 31,2×25,8 см. Дерево, левкас, темпера; медный сплав, литье, эмаль. Происходит из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
В старообрядческой среде были очень распространены иконы с изображением Распятия, где Голгофский крест с распятым Христом, выполненный в технике медного литья, вставлялся в доску с живописным изображением предстоящих. Нередко на таких иконах писали также дополнительные сюжеты. Как правило, они были тематически связаны с Распятием — «Снятие с Креста», «Положение во гроб» и т. п. В отличие от большинства таких памятников публикуемое произведение имеет очень индивидуальную живописную программу. К предстоящим Распятию добавлены преподобный Макарий, мученик Платон, мученицы Варвара и Параскева. Над крестом под изображением архангела помещена икона Богоматери Утоли моя печали (в авторском названии — «Утоли болезни и печали»). По сторонам от нее — ангельский сонм, где на переднем плане выделены архангелы Иегудиил, Уриил, Михаил, Гавриил, Салафиил и Варахиил. На верхнем поле к иконе Богородицы слетаются шестикрылые херувим и серафим. На боковых полях фигуры дополнительных святых — святителя Григория Декаполита, ангела-хранителя, мучениц Фомаиды, Евфимии Прехвальной, Аскитреи и Феклы.
Меднолитой крест-распятие с предстоящими, панорамой Иерусалима и изображениями солнца и луны, врезанный в икону, является центром живописной композиции. Он украшен эмалями четырех цветов. Изобразительный ряд, характер обработки и цветовая гамма эмалей позволяют отнести крест к произведениям поморского литья конца XVIII века. Очевидно, что икона специально заказывалась для креста, чтимого в семье его владельцев. Ее иконографическая программа вобрала святых покровителей семьи и отразила почитание иконы Богородицы Утоли моя печали. Несмотря на довольно позднюю дату прославления этот образ был воспринят и почитался старообрядцами. Живопись подражает образцам строгановской иконы первой половины XVII века. В ней довольно близко воспроизведены характер рисунка, колорит, манера письма ликов, свойственные этому стилю. Лики написаны по оранжевой охре мелкими белильным высветлениями с тонкими черными описями. Цветовая гамма включает красный, охристый, зеленый, болотисто-зеленый и темно-синий цвета. Для достижения большего декоративного эффекта художник использовал золото и серебро в изображении фона в разных частях композиции. Белильные разделки одежд мелкие и дробные. Такая стилизационная манера «под старину» являлась чрезвычайно характерной для старообрядческого иконописания Мстёры, где, очевидно, и была заказана икона.
Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, цельная, на обороте две врезные встречные шпонки. Небольшая трещина доски над верхней шпонкой. На лицевой стороне тонированная левкасная вставка с рисованным кракелюром на нижнем поле в центре, заходящая в поле ковчега на изображение Голгофы. Сколы по контуру гнезда креста. Мелкие утраты красочного слоя. Тонированные утраты золота и серебра. Записи XIX века на фигурах ангела-хранителя и мученицы Аскитреи. Тонировки по утратам на одеждах мученицы Евфимии. Потертости, загрязнения. Крест-распятие. Небольшие утраты эмали, загрязнения.
Перенесение мощей святителя Никифора Константинопольского
Середина — вторая половина XIX века. Мстёра (?). 35,8×31,4 см. Дерево, левкас, темпера. Поступила из собрания М. Б. Миндлина (Москва). Реставрирована до поступления в собрание.
Икона написана на сюжет, связанный со второй датой памяти святителя Никифора Константинопольского в православном календаре — перенесением мощей святого, отмечаемым 26 (13) марта. Святитель Никифор (ум. 828) — выдающийся церковный деятель своего времени, автор многочисленных трудов исторического, догматического и канонического содержания. Родился в Константинополе. Его родители Феодор и Евдокия дали ему хорошее образование и христианское воспитание, в том числе примером собственной жизни. Отец святого был изгнан за приверженность иконопочитанию при императоре-иконоборце Константине Копрониме. Мать последовала за ним в изгнание и, вернувшись после смерти мужа в Константинополь, приняла монашество.
При императоре Льве IV (775–780) св. Никифор стал царским советником; он вел при этом строгую жизнь и оставался поборником иконопочитания. В царствование Константина VI (780–797) в Никее в 787 году был созван VII Вселенский собор, осудивший иконоборческую ересь, на нем от имени императора в защиту православия выступил св. Никифор. После этого он несколько лет продолжал служить при дворе, затем оставил службу для жизни в уединении, основал монастырь и вел еще до пострига строгую иноческую жизнь. После кончины патриарха Тарасия (784–806) св. Никифора избрали на его место и возвели на патриарший престол 12 апреля 806 года на Пасху. Когда при императоре Льве V Армянине (813–820) началась новая волна иконоборчества и из ссылки стали возвращать отлученных от Церкви VII Вселенским собором в Никее иконоборческих епископов и клириков, из них составили еретический собор, и император потребовал от св. Никифора явиться на него для прений в вере. Тот отказался дискутировать, поскольку иконоборчество уже было предано анафеме, и пытался образумить императора, обращаясь к императрице и градоначальнику Евтихиану с письменными увещеваниями, в которых предупреждал о скорой гибели еретиков. Еретический собор осудил патриарха и отлучил его от Церкви, как и его предшественников Тарасия и Германа. Святителя сослали в монастырь Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море. Там он написал свои наиболее значимые труды в защиту иконопочитания. После тринадцати лет изгнания св. Никифор скончался 12 июня 828 года. Спустя еще 19 лет, когда иконопочитание окончательно утвердилось, мощи святителя 13 марта 847 года были торжественно перенесены в Софийский собор в Константинополе. Это событие описано его современником пресвитером Феофаном.
На иконе представлен момент внесения в городские ворота Константинополя нетленных мощей святителя. Процессию встречает император, за гробом шествует патриарх Мефодий. На груди у святителя лежит Евангелие, а с его гробом несут также крест и икону как напоминание о постановлении VII Вселенского собора о почитании иконы наряду с крестом и Евангелием. Выносная процессионная икона на ручке с образом Богоматери Одигитрии изображена прямо над мощами св. Никифора, как бы осеняя ревностного иконопочитателя. Сюжет произведения едва ли не уникален для русской иконописи. По-видимому, оно писалось по совершенно особому заказу, связанному со старообрядческой средой, о чем говорит троекратно подчеркнутое двуперстие — святителя, патриарха Мефодия и царя. Икона в общих чертах восходит к традициям строгановского письма. Колорит ее светлый и нарядный; характер разделок горок, узоров на архитектуре и других деталей очень близок произведениям, созданным во владимирских иконописных селах. По-видимому, икона была выполнена в одной из мастерских слободы Мстёра, хотя не исключено, что она вышла из среды московских старообрядческих изографов, в которой аккумулировались художественные тенденции многих других центров. Форма доски — тонкой, с двумя плоскими дубовыми шпонками и стилизованным под XVI век наружным ковчегом — типична для старообрядческих мастеров середины — второй половины XIX века.
Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, с двумя врезными встречными плоскими шпонками. Оборот покрыт лаком. Торцы залевкашены и закрашены красной краской, левкас местами выкрошился. На лицевой стороне сколы левкаса по краям. Потертости и затонированные утраты золота. Вставка с реконструкцией на лице человека в красной рубахе, несущего гроб. Мелкие тонировки по утратам. Золотая надпись на верхнем поле правлена с ошибками.
Богоматерь Феодоровская
Богоматерь Живоносный источник


Слева: Богоматерь Феодоровская. Вторая половина XIX века. Справа: Богоматерь Живоносный Источник. Вторая половина XIX века. Сызрань
Богоматерь Феодоровская
Вторая половина XIX века. Григорий Мятов. 30,5×25,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.
Икона Богоматери Феодоровской, обретшая общерусскую известность в XVII веке, в Новое время продолжала пользоваться широким почитанием и репродуцировалась в большом количестве списков, которые создавались во многих центрах иконописания, в том числе старообрядческих. В одном из них написана публикуемая икона, выполненная в стилизаторской манере «под старину».
Ее мастер не копирует какой-то конкретный образец; в ней оригинальным и очень убедительным образом переплелись черты разных направлений иконописи XVI–XVII веков, преломленные в соответствии с эстетическими воззрениями второй половины XIX столетия. С одной стороны, автор апеллирует к строгановской традиции, что сказывается в тонком изощренном рисунке, серебряных и золотых разделках, золотой обводке контура фигур, виртуозно выполненных золотых надписях. В то же время лики написаны совершенно в ином духе, их пластическая проработка скорее напоминает образцы второй половины XVI века, но объем выражен очень незначительно. Колорит иконы — приглушенный, тяготеющий к коричневатым тонам — отражает общую художественную тенденцию времени создания памятника, когда палитра русской иконописи повсеместно сгущается и темнеет. Должно быть, таким образом мастер стремился передать эффект старой иконы под потемневшей олифой. Под старину стилизована не только живопись иконы, но даже формулировка авторской подписи. Художник называет себя изографом и использует оборот «Божиим откровением», что придает архаическое звучание тексту автографа.
На полях изображены дополнительные святые. По-видимому, это святые помощники, а не патрональные святые заказчиков. Во-первых, здесь представлены мученики Гурий, Самон и Авив, почитавшиеся на основании своего посмертного чуда как покровители брака: они спасли от смерти вторую жену римского воина-двоеженца, которую он сделал рабой своей первой жены. Во-вторых, это мученик Вонифатий, считавшийся святым, помогающим от пьянства. Тему небесного покровительства продолжает и сама Богоматерь, поскольку перед ее Феодоровской иконой принято было молиться о благополучном разрешении в трудных родах. По мнению И. Л. Бусевой-Давыдовой, такой сюжетный состав может указывать на то, что образ был заказан к венчанию для новобрачной. Иконописец Григорий Мятов известен по подписной иконе «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» из собрания Виктора Бондаренко. Стиль живописи обоих произведений идентичен. Манера письма позволяет предполагать, что художник был связан со старообрядческим иконописанием Мстёры, но в имеющихся архивных документах по мстёрским мастерам его имя не встречается. Не исключено, что Григорий Мятов работал в Москве, где среди старообрядческих художников также было популярно стилизаторское направление, чрезвычайно тонко и точно следовавшее древним образцам.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, на обороте две врезные встречные плоские шпонки. Доска слегка покороблена, шпонки немного вышли из пазов. На лицевой стороне мелкие утраты красочного слоя, потертость золота и серебра. Мелкие тонировки, остатки старого покрытия.
Богоматерь Живоносный источник
Вторая половина XIX века. Сызрань. 15,2×13,4 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Богоматерь Живоносный источник — довольно редкий сюжет в иконописи Нового времени. В старообрядческих иконах он практически не встречается, очевидно, в связи с тем, что празднование в честь образа было внесено в церковный календарь при патриархе Никоне. Тем не менее, публикуемая икона относится к старообрядческой традиции, о чем говорит форма написания слова «архангел». Композиция иконы заметно упрощена, возможно, в связи с малыми размерами образа. Вокруг бассейна отсутствуют отдельные изображения чудесных исцелений, произошедших от источника. Все представленные персонажи разделены на две довольно плотные группы, стоящие по сторонам от водоема. И только на переднем плане выделена отдельная фигура. По-видимому, это сцена чуда с неким человеком, имевшим скорченные руки и ноги. В остальном композиция достаточно традиционна. Обращает на себя внимание изображение самого бассейна в виде круглого водоема, обложенного кирпичом или красным тесаным камнем. По краю письма идет черная рамка с золотым узором в виде чередующихся стилизованных цветов и завитков с точками, которая лежит на пологой лузге. Эта деталь позволяет безошибочно идентифицировать памятник как произведение, написанное в старообрядческих мастерских Сызрани.
Среди старообрядческих иконописных центров Нового времени Сызрань заявила о себе позднее всех. Об иконописании на Средней Волге и собственно в Сызрани известно по документам с начала XIX века, но свой узнаваемый стиль сформировался здесь только к последней четверти столетия и прервался после революции 1917 года. Несмотря на его столь недолгую историю, письму здешних мастеров, глубоко традиционному по своим эстетическим ориентирам, подражали во всей Симбирской губернии и Казани. Чрезвычайно своеобразен колорит сызранской иконы, тяготеющий к преобладанию темных тонов, что ассоциирует ее с древними образами, скрытыми под плотным слоем старой олифы. Другая ее специфическая черта — довольно широкая черная рамка, идущая по лузге, украшенная выполненным золотом орнаментом. В этом мастера подражали произведениям владимирских иконописцев, но данный прием приобрел у них яркую индивидуальность. Как во многих старообрядческих центрах, художественная продукция Сызрани была востребована отнюдь не только в среде староверов. Наряду с изготовлением «расхожих» икон массового спроса местные мастера выполняли и индивидуальные заказы, отличающиеся незаурядностью художественного решения. Публикуемая икона имеет несколько необычный для сызранских произведений вид, поскольку утратила свои первоначальные поля. Лаконичная композиция, приглушенный колорит, манера письма ликов, ориентированная на приемы владимирских иконописцев, типичны для этой традиции. Отмеченная деталь — кирпичная кладка стенки бассейна — также часто встречается на произведениях, созданных мастерами Сызрани.
Сохранность. Доска с ковчегом, без полей, цельная, без шпонок. Первоначально была толще и имела поля, которые были опилены, а оборот стесан и закрашен (по-видимому, из-за деструкции древесины в связи с многочисленными ходами жука-древоточца). На лицевой стороне небольшие потертости и утраты золота на нимбах, местами тонированные.
Богоматерь Владимирская, с праздниками
Собор Богоматери
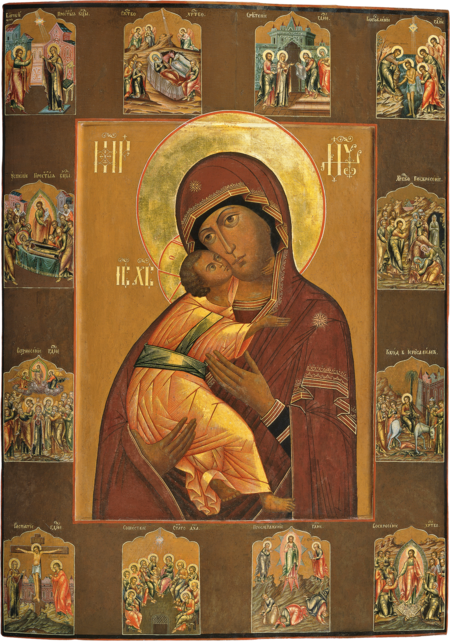
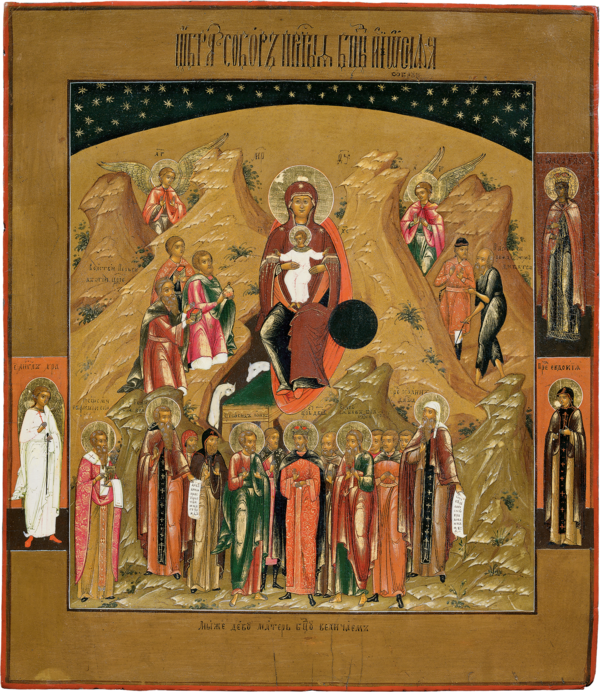
Слева: Богоматерь Владимирская, с праздниками. Вторая половина XIX века. Гуслицы. Справа: Собор Богоматери. Последняя четверть XIX века. Гуслицы (?)
Богоматерь Владимирская, с праздниками
Вторая половина XIX века. Гуслицы. 104,5×73 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона относится к тем редким спискам «в меру и подобие» древней чудотворной Владимирской иконы Богоматери, которые воспроизводят изображение не только в поле ковчега, но и праздников на полях, присутствовавших на ее серебряном окладе. Этот оклад, выполненный после 1410 года при митрополите Фотии, сменил более древний, с Деисусом на верхнем поле. В него было включено двенадцать имевших форму киота чеканных пластин с изображением праздников, помещенных на широких полях древнего образа. Традиция копирования в живописи этих клейм прослеживается с начала XVI века. Около 1514 года для Успенского собора Московского Кремля была выполнена Владимирская икона Богоматери с праздниками на полях (ГИКМЗМК), где клейма по форме копировали пластины оклада. К тому времени оклад еще не претерпел серьезных реставрационных вмешательств, и сюжеты праздников располагались на нем в хронологическом порядке — от Благовещения до Успения Богоматери, что и зафиксировала икона из Успенского собора.
Позднее принцип письма праздников вокруг образа Богоматери Владимирской в виде рамы из сюжетных клейм получает в русской иконописи более свободную трактовку: их количество увеличивается, они присутствуют уже и на уменьшенных списках с древнего образа. Однако в некоторых произведениях рубежа XVI–XVII веков, в частности у строгановских мастеров, связь с первообразом прослеживается в форме завершения клейм с праздниками, что аналогично пластинам оклада чудотворного образа. Традиция точных списков с Владимирского образа с праздниками на полях также продолжала существовать и прослеживается по единичным памятникам. Тем не менее, все они в чем‑то отступают от оригинала. Так, на иконе московского иконописца первой трети XVIII века Дорофея Иванова Глоткина (ГМИР) добавлены четыре клейма с изображением евангелистов, а на иконе середины XVIII века из кладбищенской церкви в Лальске (ЦМиАР) изменены сюжеты клейм. Икона из данного собрания, напротив, точно следует чудотворному оригиналу. Последовательность клейм на ней несколько нарушена, но не в связи с авторской волей, а как результат точного следования образцу с перемонтированным окладом. Ко второй половине XIX века древний оклад чудотворной иконы подвергся нескольким поновлениям, после одного из которых клейма изменили первоначальное расположение. Поскольку этот список создавался в старообрядческой среде, его автор сделал все возможное, чтобы передать святыню максимально точно. Ощущению древности публикуемого образа во многом способствует колорит иконы — намеренно темный, приглушенный, создающий эффект живописи, находящейся под плотным слоем потемневшей олифы. Этот прием был очень популярен у старообрядческих иконописцев Гуслиц и встречается у них постоянно, в то время как характер рисунка и приемы письма во многом соответствуют тем, которые использовались иконописцами Мстёры и Палеха в конце XIX века.
Сохранность. Доска с ковчегом, из четырех частей, на обороте две врезные встречные высокие шпонки. Доска несколько покороблена, шпонки приподнялись из пазов. На лицевой поверхности вверху в центральной части доски тонкая накладка заподлицо. На обороте расхождение досок по стыку над верхней и под нижней шпонкой, трещина внизу заполнена клеем. Обрезы и края закрашены темно-коричневой краской. На лицевой стороне грунтовая трещина по стыку на верхнем поле в центре. Потертости золота на нимбах и в разделках одежд. Прописи по утратам на правом поле, фоне средника и мафории Богоматери. Золотые надписи поновлены.
Собор Богоматери
Последняя четверть XIX века. Гуслицы (?). 36,1×31,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Собор Богоматери (Собор Пресвятой Богородицы) — праздник, отмечаемый на следующий день после Рождества Христова. Был установлен в IV веке и первоначально назывался «Родильные дары», позднее получил наименование «Собор Богоматери», что означает объединение всех верных для прославления Марии и воплотившегося через нее Христа. Иконография праздника зародилась в XI–XII веках и сформировалась в конце XIII — начале XIV столетия на Балканах на основе текста Рождественской стихиры «Что Ти принесем, Христе», приписываемой Иоанну Дамаскину. На рубеже XIV–XV веков праздник Богоматери приходит в русскую традицию, где усложняется, перерабатывается и обретает новые черты в XVI–XVII столетиях. На иконах «Собор Богоматери» того периода обычно каждой строфе стихиры соответствует конкретный образ, а вся композиция в целом изображает представителей видимого и невидимого мира, прославляющих Богоматерь и приносящих благодарственные дары родившемуся Спасителю. В качестве текстовых комментариев к отдельным деталям иконографии могла использоваться не только Рождественская стихира, но и другие праздничные молитвословия. Композиционно иконография «Собора» близка «Рождеству Христову». В центре на фоне горок восседает Богоматерь, являющая миру сидящего на ее коленях Младенца. Над ней — небо, принесшее в дар Спасителю звезду, рядом поющие ангелы. Слева от Богородицы волхвы с дарами, а справа — пастухи, возвещающие о рождении Христа. Внизу показана группа представителей человеческого рода, восхваляющих Богородицу. Обычно это певцы, среди которых присутствуют знаменитые гимнографы — авторы рождественских песнопений Иоанн Дамаскин и Косма Маюмский. В нижних углах композиции, как правило, изображаются две женские фигуры в пещерах, олицетворяющие Землю и Пустыню.
Публикуемая икона — один из редких памятников этого сюжета, относящихся к Новому времени. Ее композиция заметно отступает от типичной для XVI–XVII веков. Многие детали просто отсутствуют — Вифлеемская звезда, персонификации Земли и Пустыни. В то же время в ней есть и ряд новаций. В группе славословящих появляются такие персонажи, как царь Давид, Иосиф Обручник, Иаков брат Господень. По-видимому, они акцентируют тему родословия Христа. Справа группу замыкает преподобный Иоанн Дамаскин, а слева — не встречающийся в древних памятниках Евфимий Великий. Интересно, что левее его изображен еще один святой с таким же именем — священномученик Евфимий. Он не имеет пары справа и был добавлен, очевидно, как патрональный святой. Обращает на себя внимание большой круглый черный камень справа от Богоматери, смысл которого не совсем понятен. Необычно и авторское название образа — «Собор Пресвятой Богородицы и Иосифа Обручника», фигура которого изображена на иконе в группе славословящих. На полях представлены небесные покровители владелицы иконы — ангел-хранитель и преподобная Евдокия. Изображение такой пары — ангела-хранителя и соименного святого — часто встречается на старообрядческих памятниках. Фигура княгини Ольги была дописана на полях позднее. Стиль живописи иконы очень похож по формальным признакам на принятый у мастеров владимирских иконописных сел, но отличается очень темным колоритом. Это ощущение усиливает темный фон, почти одинаковый по тону с полями иконы. Именно эти особенности присущи произведениям старообрядческих иконописцев, проживавших к востоку от Москвы близ города Егорьевска по берегам реки Гуслицы. Таким образом, можно говорить о том, что публикуемый памятник принадлежит к числу очень тонких по письму работ гуслицких мастеров, произведениям которых обычно свойственна тяжеловесность рисунка и формы. Горки проработаны легкими и мелкими, слегка тонированными белильными лещадками, деревца и травы прописаны золотом. Рисунок не акцентирован. Судя по тому, что на иконе имеется графья, можно предположить тиражирование в рамках данной мастерской необычного извода, связанного, по-видимому, с местной гуслицкой традицией.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. Оборот, торцы и боковые обрезы залевкашены и закрашены при современной реставрации. На лицевой стороне грунтовые трещины по растрескиванию доски на нижнем поле, небольшой скол в правом нижнем углу. Мелкие тонированные утраты золота на нимбе Богоматери. Опушь прописана. Фигура св. княгини Ольги на правом поле дописана позднее в масляной технике.
Богоматерь Нерушимая стена
Спас Смоленский, с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, мучеником Петром и великомученицей Екатериной


Слева: Богоматерь Нерушимая стена. 1886. Справа: Спас Смоленский, с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, мучеником Петром и великомученицей Екатериной. Конец XIX века
Богоматерь Нерушимая стена
1886 год. Г. Н. Журавлев, Самара. 72,2×49,5 см. Дерево, грунт, масло. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве на Антикварном салоне. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона воспроизводит мозаический образ Богородицы Оранты XI века в конхе центральной алтарной апсиды Софийского собора в Киеве. В позднее время он получил название «Нерушимая стена», в котором акцентировалась его градозащитная функция. Большой интерес к изображению Оранты возник в связи с начавшейся в Софийском соборе в середине XIX века капитальной реставрацией и особенно с деятельностью профессора А. В. Прахова (1846–1916), который в 1880‑х годах руководил этими работами. Историк искусства, археолог и библиофил, основатель Русского археологического института в Константинополе, А. В. Прахов одним из первых исследовал древние мозаики и фрески собора. Он выполнил с них фототипии и фотографии, выставленные впоследствии в Петербурге, что дало мощный импульс к росту в обществе интереса к древней христианской культуре и появлению в русском искусстве византийского стиля. Фотоматериалы стали также образцами для иконописцев, в том числе для киевских, которые быстро освоили иконографию «Нерушимой стены» и наладили на рубеже XIX–XX веков массовое производство таких икон в качестве паломнических сувениров.
Икона, написанная в 1886 году Григорием Журавлевым, является одним из ранних откликов на просветительскую деятельность А. В. Прахова. Художник брал за образец фотографию. При этом он достаточно точно воспроизводит иконографию изображения в конхе храма, копирует идущий по краю арки греческий текст, переводимый как «Бог посреди Нее», но отступает от оригинала в целом ряде деталей. Так, он не воспроизвел орнаменты, золотые разделки одежд Богоматери, неточно изобразил ее подножие. Сама архитектурная форма конхи передана им очень условно. Но главное, в чем он отошел от образца, это стиль живописи, который совершенно не следует византийскому прототипу, а соответствует авторскому стилю Григория Журавлева, работавшему в живописной манере и масляной технике. Обращение этого мастера к киевскому образцу — свидетельство того, что интерес к византийскому и древнерусскому художественному наследию в конце XIX века завладевает умами иконописцев независимо от их собственных эстетических ориентиров. Григорий Николаевич Журавлев (1852–1916) — уникальный пример художника, преодолевшего врожденные физические недостатки и полноценно реализовавшего себя в творчестве. Мастер родился в селе Утевка Самарской губернии в крестьянской семье. От рождения не имел рук и ног и с детства учился рисовать, зажимая кисть или карандаш в зубах. В реализации художественных склонностей ребенку-инвалиду во многом способствовала его семья, сестра и брат, на попечении которых он оставался всю жизнь. Художественное образование Григорий Журавлев получил у одного из профессиональных художников в Самаре, причем учился у него не только живописи, но и иконописанию в академической манере. За портрет царской семьи художнику был назначен императором Николаем II пожизненный пенсион. Григорий Журавлев работал также и в монументальном искусстве. В Троицком храме села Утевка, в проектировании которого он принимал участие и у стен которого его впоследствии похоронили, по эскизам мастера были выполнены стенные росписи; там же находились иконы его работы. Григорий Журавлев обычно подписывал свои произведения, и сохранилось их довольно много, одно из них — «Святитель Николай» — имеется в коллекции Виктора Бондаренко. Представленная икона — пока единственный известный пример обращения художника к образцу древнерусской живописи.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена на обороте двумя врезными сквозными шпонками. На обрезах и торцах доски следы от мелких и крупных гвоздей. На лицевой стороне остатки старого покрытия.
Спас Смоленский, с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, мучеником Петром и великомученицей Екатериной
Конец XIX века. Москва или Мстёра 36,5×31,5 см. Дерево, левкас, темпера Происхождение неизвестно, приобретена в Москве Реставрирована до поступления в собрание.
Икона принадлежит к распространенной в России с середины XVI века иконографии Спаса Смоленского, представляющей собой ростовое изображение стоящего на подножии Спасителя, который благословляет правой рукой и держит в левой раскрытое Евангелие. К его стопам припадают святые Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, а в верхней части композиции симметрично изображены два ангела в облаках. Этот иконографический тип появился в русской иконописи XVI века в связи с событиями царствования Василия III, при котором в 1514 году у Литвы был отвоеван город Смоленск. В память об этом на Фроловских (ныне Спасских) воротах Московского Кремля был поставлен образ Христа Вседержителя в рост. Позднее его сменила фресковая икона.
Возможно, преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский присутствовали в данной иконографии изначально, хотя некоторые исследователи считают, что они могли появиться в ней не ранее 1521 года как особые заступники Москвы от татарского завоевания, что поясняет повесть о нашествии Махмет-Гирея на Москву, составленная в середине XVI столетия. Некая слепая инокиня удостоилась чудесного видения «световидного собора» святителей, покидавших Кремль через Спасские ворота. Единственными, кто не хотел оставить Москву, были Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Они «любезно припадаху к ногам великих онех святителей и моляху их со слезами». После соборной молитвы святители вернулись в Кремль, а полчища Махмет-Гирея сняли осаду. Одним из самых ранних сохранившихся примеров этого сюжета является икона «Спас Вседержитель, с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским» из Благовещенского собора Московского Кремля 1547–1551 годов. Впоследствии, с расширением границ бытования извода и с наделением его градозащитной функцией, фигуры преподобных Сергия и Варлаама нередко заменялись местными святыми, особо почитаемыми в регионе создания иконы, или дополнялись другими в связи с особенностями заказа. На публикуемой иконе добавлены мученик Петр и великомученица Екатерина — очевидно, небесные покровители супружеской пары, заказавшей эту работу. Икона написана в подражание древней манере и сочетает в себе стилистические признаки разных эпох — XVI и XVII веков. Темный фон и письмо ликов ориентированы на строгановские образцы конца XVI века, так же как и жест руки истово крестящейся св. Екатерины. Изящные фигуры ангелов с орудиями страстей на узорчатых облачках следуют традициям середины XVII века. Круглящийся позем восходит к работам Симона Ушакова. В то же время, колорит иконы оригинален и несет в себе признаки иконописной палитры конца XIX столетия с ее полноценным звучанием отдельных глубоких цветов. Виртуозно выполненные в подражание палеографии XVII века золотые надписи придают памятнику особую рафинированность и законченность. Манера произведения может классифицироваться как «подстаринная», то есть стилизованная под старину. Особенно успешно она применялась иконописцами Мстёры и старообрядческими мастерами Москвы.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с двумя торцевыми врезными шпонками. Оборот залевкашен, внизу тонированная вставка. На обрезах мелкие отверстия от гвоздей. На лицевой стороне небольшие тонированные вставки по нижнему краю. Небольшая вставка на нимбе Христа слева. Механические повреждения.
Богоматерь Владимирская
Благоверный князь Александр Невский


Слева: Богоматерь Владимирская. Конец XIX века. Мстёра Справа: Благоверный князь. Александр Невский. 1893 год. Москва
Богоматерь Владимирская
Конец XIX века. Мстёра. 31,2×26,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография Богоматери Владимирской продолжала пользоваться большой популярностью в Новое время, особенно в Москве. Образы этого извода, предназначавшиеся для домашнего пользования, создавались в разных художественных центрах в расчете на различные социальные группы населения. Представленная небольшая Владимирская икона Богоматери выполнена, по-видимому, в одной из иконописных мастерских Мстёры для реализации в Москве. Многие крупные московские мастерские, основанные выходцами из Мстёры, имели там свои филиалы, в которых выполнялись заказы на востребованные сюжеты.
Несмотря на массовый характер производства таких икон, им присуще высокое художественное качество. Публикуемый памятник отличает тонкое миниатюрное письмо ликов, выполненное с использованием техники отборки. Несмотря на преобладание темных, не очень зрелищных цветовых тонов, иконе свойственна колористическая изысканность. Так, мастер использовал золото нескольких оттенков, серебро, а также цветные лаки. Сумеречность колорита и ликов, напоминающих о памятниках XVI столетия, проистекает оттого, что художник, бывший, скорее всего, старообрядцем, старался следовать стилю древних икон. Сгущение колорита, с другой стороны, отражает общую тенденцию в русском иконописании того времени. Ближе к концу XIX столетия сразу несколько иконописных центров перестраивают цветовую гамму своих произведений, делая ее откровенно темной, что хорошо прослеживается по памятникам, связанным с Сызранью и Гуслицами. Не так форсированно, но, тем не менее, вполне ощутимо темнеет во второй половине XIX века колорит и в ряде произведений Палеха и Мстёры. Этот процесс отразил поиски нового, более строго ориентированного на древнюю художественную традицию стиля, которые протекали различными путями и привели к разным результатам. Для иконописцев Мстёры это был не единственный и не главный вариант развития стиля, поскольку на рубеже XIX–XX веков мстёрские мастера предпочитали яркую и светлую колористическую гамму, богатую по цветовой палитре.
Сохранность. Доска с ковчегом, надставлена небольшой планкой. На обороте две врезные встречные плоские шпонки. Стык слегка разошелся с оборота. Оборот и торцы закрашены коричневой краской. На лицевой стороне тонкая тонированная грунтовая трещина по стыку на левом поле. Потертости и мелкие утраты золота в ассисте одежд.
Благоверный князь Александр Невский
1893 год. М. И. Дикарёв, Москва. 31,3×25 см. Дерево, левкас, темпера, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Святой благоверный князь Александр Невский (ок. 1220–1263) — сын князя Ярослава Всеволодовича, княжившего во время рождения сына в Переславле-Залесском. В юношеские годы он вместе со старшим братом Феодором был наместником отца в Новгороде. C 1236 года, когда Ярослав Всеволодович стал великим князем Киевским, и до 1252 года Александр правил в Новгороде. Разгром на Неве 15 июня 1240 года шведов, стремившихся отрезать Новгород от подвластной ему Карелии, принес Александру славу и прозвище «Невский». Два года спустя князь разбил войска Ливонского ордена на льду Чудского озера. После смерти отца в 1247 году отправился с младшим братом Андреем в Золотую Орду к хану Батыю, где получил ярлык на Киевское княжение, но остался жить в Новгороде. В 1262 году Александр Невский заключил союзный договор с литовским князем Миндовгом против Ливонского ордена. Тогда же обстоятельства заставили его вновь ехать в Золотую Орду; он пробыл там год и на обратном пути скончался. Перед смертью князь был пострижен в схиму с именем Алексий; погребен в 1263 году в Рождественском монастыре во Владимире. В 1380 году произошло обретение мощей, а в 1547 — канонизация. «Повесть о житии Александра Ярославича Невского» написана уже в 1280‑х годах. К канонизации были составлены служба и «Слово похвальное благоверному князю Александру», где описаны чудеса, происходившие от мощей, которые фиксировались монахами владимирского Рождественского монастыря. Изображения князя Александра появляются в XVI веке после его канонизации. Согласно традиции, он, как принявший постриг, писался в монашеских одеждах. Параллельно «монашескому» изводу существовал еще и «княжеский» — в плаще и шапке, с крестом в руках.
В Новое время князь становится одним из главнейших святых Российской империи, он был тезоименитым святым двух императоров из династии Романовых — Александра I и Александра II. В 1724 году по указу Петра I его мощи перенесли в новую столицу Санкт-Петербург и положили в Александро-Невской лавре. После этого последовал указ Святейшего Синода о том, что князя Александра Невского «в монашеской одежде никому отнюдь не писать», «а писать тот святого образ в одеждах великокняжеских». Такой вариант иконографии в памятниках XVIII–XIX веков часто несет в себе черты парадного портрета, подчеркивая богоизбранность князя, данную ему свыше земную власть. Эта традиция получила новый импульс в эпоху Александра I, когда праздновалось 100‑летие основания Петербурга. Параллельно продолжал бытовать запрещенный Синодом вариант изображения князя в схиме, но исключительно в старообрядческой среде. Нередко и в таких иконах подчеркивалась, прежде всего, княжеская доблесть святого, выраженная в его ратном подвиге, поскольку его образ часто дополняли сценой Невской битвы. Уроженцы старообрядческой слободы Мстёра иконописцы И. С. Чириков и М. И. Дикарёв при создании в конце XIX века для Мраморного дворца в Санкт-Петербурге серии икон, посвященных святым на каждый день года, предложили свою редакцию иконографии святых русских князей, ориентированную на традиционную для иконописи трактовку образа. Репрезентативность их изображениям придавали не формальные приемы из арсенала европейских художников, а изощренная декоративная манера письма. Поскольку вся серия имела колоссальный успех в русском обществе благодаря своему новаторскому стилистическому направлению, оказавшемуся созвучным духу эпохи, она стала образцом для подражания. Ее формальные принципы неоднократно повторялись и в последующих работах авторов серии.
К числу таких произведений принадлежит публикуемая икона, созданная М. И. Дикарёвым. Александр Невский показан на ней в одеждах воина и князя — на доспех накинута подбитая горностаем шуба, на голове княжеская шапка. Он представлен на фоне пейзажа: справа виден Успенский собор во Владимире, а слева — река Клязьма в окружении крутых берегов и еловых лесов. Очень эффектен фон, переданный растяжкой в три цвета, который воспроизводит переходный момент суток — закат или рассвет. Все детали изображения проработаны с предельной тонкостью, будь то насыщенные узором одежды или прописанные золотом деревья. Орнаментированная рамка на полях, где вверху ангелы держат Нерукотворный образ Спасителя, отличается ювелирностью проработки, редко встречающейся в произведениях подобного стиля у других художников.
Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, с двумя врезными встречными плоскими шпонками на обороте. Оборот покрыт лаком. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия. На лицевой стороне небольшие тонировки по утратам на раме и опуши внизу. Мелкие утраты золота на нимбе в изображении Спаса Нерукотворного. Тонировки по утратам на фоне слева. Незначительные мелкие утраты красочного слоя.
Богоматерь Всех скорбящих Радость, с избранными святыми
Собор Киево-Печерских святых
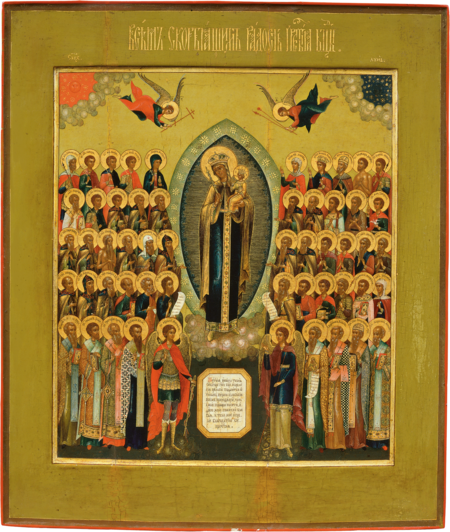

Слева: Богоматерь Всех скорбящих Радость, с избранными святыми. 1899 год. Мстёра. Справа: Собор Киево-Печерских святых. Последняя четверть XIX века. Мстёра
Богоматерь Всех скорбящих Радость, с избранными святыми
1899 год. А. И. Суслов, Мстёра. 45×38,4 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Использованный в иконе вариант иконографии «Всех скорбящих Радость» очень опосредованно связан с прототипом — чудотворным образом из церкви Спасо-Преображения (Всех скорбящих Радости) на Большой Ордынке в Москве. В нем нет типичных для классического варианта иконографии изображений различных страждущих, обращающихся с мольбой к Богородице и утешаемых ангелами. Вместо них на иконе представлен собор святых, предстоящих Богородице. Центральное изображение Богоматери с Младенцем на руках, окруженной сиянием, два ангела с орудиями страстей вверху композиции и картуш с текстом молитвы внизу полностью соответствуют обычной схеме «московского» извода Всех скорбящих Радости. Замена страждущих святыми в рамках данной иконографии произошла не ранее конца XVIII века. По всей вероятности, на нее оказал влияние широко распространенный в то время вариант изображения праздника Покрова, где Богоматери в верхней части композиции предстоят различные чины святости (см. кат. 52).
Все святые на иконе легко идентифицируются по надписям на их нимбах. В верхнем ряду представлены Лонгин сотник, мученики Лавр и Флор, великомученик Георгий Победоносец, праведная Мария Магдалина, мученица Манефа, великомученица Варвара, праведный Иов Многострадальный, святой Варвар (прежде разбойник), великомученик Никита. Во втором ряду — священномученик Маруф, мученик Иоанн Воин, бессребреники Иоанн и Кир, преподобные Сергий Радонежский, Исаакий и Марон, архидиакон Лаврентий, мученики Конон Исаврийский и Трифон. В третьем ряду — преподобные Сампсон Странноприимец, Анин, Онуфрий Великий, Моисей Мурин, Иоанн Новгородский, Антоний и Феодосий Печерские, Иоанн Многострадальный, мученики Леонтий, Маврикий, Даниил и Антоний. В четвертом ряду — преподобные Нифонт, Ефрем Сирин, Паисий Великий, апостолы Павел и Петр, Иоанн Предтеча, пророк Илия, апостол Марк, великомученик Пантелеимон, мученик Мина, священномученик Киприан и мученица Иустина. И, наконец, в нижнем ряду — святители Стефан Сурожский, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, архангелы Михаил и Рафаил, священномученики Ипатий Гангрский и Власий Севатийский, святители Спиридон Тримифунтский и Мартин Исповедник. Среди представленных святых много тех, кто особо популярен среди старообрядцев, кроме того, форма написания имен некоторых из них также соответствует старообрядческой традиции.
Несмотря на то, что икона Богоматери Всех скорбящих Радости прославилась уже после церковной реформы патриарха Никона, она почиталась старообрядцами. Известно много таких икон в разных иконографических вариантах, созданных в старообрядческом кругу. Форма авторского названия иконы — «Всем скорбящим Радость» — также старообрядческая, поскольку в официальной Церкви она называется «Всех скорбящих Радость». Икона написана Алексеем Ивановичем Сусловым — представителем династии иконописцев из Мстёры. Отцом его был либо Иван Степанович, либо Иван Михайлович Суслов, чьи имена встречаются в архивных документах. Сын Алексея, Стефан Алексеевич (ум. 1923), в начале XX века был одним из ведущих мастеров, работавших в стилизаторской манере под древнюю иконопись. Из художественного наследия Алексея Суслова известна икона «Ангел-хранитель, царевич Димитрий и княгиня Ольга» 1900 года (частное собрание). В своем творчестве мастер следовал не столько тому популярному направлению мстёрского иконописания, родоначальниками которого были И. С. Чириков и М. И. Дикарёв, сколько другому, которое более строго ориентировалось на художественные принципы «строгановской» иконы.
Сохранность. Доска двухковчежная, из трех частей, обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Оборот покрыт лаком. Торцы залевкашены и закрашены ярко-красной краской. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия. На лицевой стороне небольшие сколы по нижнему краю в центре. Грунтовые трещины по стыкам досок с небольшими тонированными вставками на полях и фоне. Незначительные проседания покрытия.
Собор Киево-Печерских святых
Последняя четверть XIX века. Мстёра. 35,8×31,2 см. Дерево, левкас, темпера, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография образа начала складываться во второй половине XVII века в печатной графике Киево-Печерского монастыря в связи с соборной канонизацией печерских иноков. Их групповые изображения без идентификации каждого персонажа встречаются в иллюстрациях и заставках изданного в монастырской типографии в 1661 году Киево-Печерского патерика, гравюры для которого выполнил мастер Илья. В издании 1702 года иконография обретала еще более законченный вид в гравюрах на металле Леонтия Тарасевича. К этим гравюрам восходили живописные изображения, создававшиеся монастырскими иконописцами в качестве паломнических реликвий. В позднее время данный сюжет был также активно представлен в лубке, литографиях и эмалях.
Собор Киево-Печерских святых. Фрагмент
Композиция включает в себя всех печерских подвижников. Преподобные разделены на две группы: те, кто подвизался в Ближних (Антониевых) пещерах и чьи мощи почивают там, и другие — подвизавшиеся и захороненные в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Они выстроены несколькими рядами на фоне гор по двум сторонам от изображения Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Центральное положение среди них — в нижнем ряду ближе к центру — занимают основатели монастыря преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Вверху в облаках ангелы несут главную монастырскую святыню — икону Успения Богоматери (Киево-Печерскую). Под изображением собора между группами иноков показаны равноапостольный князь Владимир с сыновьями — первыми русскими святыми, мучениками Борисом и Глебом. Наверху в горах видны пещеры с находящимися в них черепами подвижников — «мироточивыми главами». Этот извод имел очень широкое распространение в XIX веке как в Киеве, так и далеко за его пределами, в частности у иконописцев Владимирской губернии. Публикуемая икона отличается примечательными иконографическими особенностями, которые продолжают киевскую тему. Так, справа на горе изображен апостол Андрей, водружающий крест. Симметрично ему представлен архангел Михаил, очень почитавшийся киевскими князьями, основавшими посвященные ему монастыри в городе и близ него — Михайловский Златоверхий и Выдубицкий. Еще одна любопытная деталь, обычно не присутствующая на таких иконах. На уровне третьего ряда слева в пещере изображены еще двенадцать лежащих святых «от братии», а справа «части святых младенец, избиенных от Ирода». На фасаде Успенского собора дважды в виде наружной росписи запечатлены преподобные Антоний и Феодосий. Форма доски, решение ее полей и лузги, а также уже довольно яркий и чистый колорит характерны для иконописцев Мстёры последней четверти XIX века. Еще более их манере соответствует письмо многочисленных миниатюрных ликов, в точности следующее образцам «строгановской» живописи.
Сохранность. Доска кипарисная, двухковчежная, из двух частей. Обе врезные встречные шпонки сохранились фрагментарно. На боковых обрезах гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне узкая вставка по стыку досок с реконструкцией живописи. Грунтовые трещины по трещинам доски на верхнем и нижнем поле слева. Потертости золота. Тонировки по утратам на изображении иконы Успения.
Ангел Благое Молчание, Богоматерь Неопалимая Купина и избранные святые
Деисус (Седмица)


Слева: Ангел Благое Молчание, Богоматерь Неопалимая Купина и избранные святые. Конец XIX — начало XX века. Мстёра. Справа: Деисус (Седмица). Конец XIX — начало XX века. Мстёра
Ангел Благое Молчание, Богоматерь Неопалимая Купина и избранные святые
Конец XIX — начало XX века. И. В. Брягин, Мстёра. 33,5×28,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована до поступления в собрание.
В верхнем ряду иконы в двух клеймах изображены Спас Благое Молчание и Богоматерь Неопалимая Купина. В нижнем ряду представлена большая группа избранных святых, стоящих в два яруса. В первом — фронтальное изображение мученицы Дорофеи, мучеников Трифона и Иулиана, священномученика Вукола Смирнского, преподобного Сергия Радонежского, мученика Максима, равноапостольного князя Владимира, мученицы Фавсты. Во втором, обращенными к центру, написаны святые Марфа и Мария, мученик Ликарион, мученицы Макрина и Каллиста, мученик Евиласий. Подбор сюжетов и святых носит очень индивидуальный характер и продиктован заказчиком произведения. Образ Спаса Благое Молчание пользовался очень большой популярностью у старообрядцев. Его можно встретить и в иконописи, и в медном литье. Впервые эта иконография появляется в конце XV века в росписях алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля, где Христос был изображен в своем реальном облике со сложенными на груди руками — знак исихии (молчания). Очень скоро иконография приобрела символический характер, и Спаситель стал изображаться в виде ангела. Такой извод широко распространился в XVII веке; обычно подобные иконы размещались в храме близ входа в жертвенник.
В старообрядческой среде иконография продолжала развиваться и обогащаться, обретая дополнительные смысловые оттенки. Ангела могли изображать в белых одеждах или в архиерейском облачении с митрой на голове, нередко у него был звездчатый нимб, как у Софии Премудрости, и огненный красный лик; в Новое время появляются дополнительные изображения херувимов и серафимов на фоне фигуры Спаса. На публикуемой иконе огнеликий ангел не только прижимает к груди шестикрылого серафима, но и держит в руке ключ на цепочке. Икона написана как стилизация на тему древней иконы, но старые традиции вольно переистолкованы в контексте художественных идей рубежа XIX–XX веков. В подчеркнуто высветленных ликах легко прочитываются типологические черты модерна. Колорит разнообразный, но приглушенный. Цвета пригашены обильными золотыми разделками и узорами одежд. Такая манера письма типична для лучших иконописцев Мстёры того времени, но в то же время несет в себе признаки творческой индивидуальности мастера. Иван Васильевич Брягин — мстёрский иконописец и реставратор древнерусской живописи, считался одним из лучших художников-«старинщиков». Написанные им около 1901 года иконы «Богоматерь Казанская» и «Архангел Михаил» как примеры высокопрофессиональной современной иконописи находились в собрании известного исследователя древнерусской и византийской живописи Н. П. Кондакова. С 1906 года И. В. Брягин преподавал в Мстёрской иконописной школе Комитета попечительства о русской иконописи. Работал не в мастерской, а самостоятельно, иногда в сотрудничестве с другими мстёрскими мастерами, в частности с В. И. Шитовым. Был учителем трех своих сыновей, ставших впоследствии известными реставраторами. Подписных произведений Брягина сохранилось немного. Публикуемая икона, как и другие произведения мастера, показывает его не столько прямым стилизатором, сколько интерпретатором древнерусских художественных традиций.
Сохранность. Доска кипарисная, двухковчежная, из трех частей. На обороте была скреплена двумя врезными встречными плоскими шпонками, нижняя утрачена. Обрезы и торцы залевкашены и закрашены охрой, на них гвоздевые отверстия от крепления рубашки и оклада. На лицевой стороне сколы и небольшие тонированные вставки по краям, на верхнем поле справа. Мелкие утраты краски и тонировки. Потертости золота.
Деисус (Седмица)
Конец XIX — начало XX века. А. И. Цепков, Мстёра. 71,5×57,5 см. Дерево, левкас, темпера, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание, реставрация завершена В. В. Ковальчуком.
Традиционная иконография Деисуса-Седмицы (см. кат. 57) на иконе А. И. Цепкова значительно расширена и дополнена новыми деталями, что придает этому образу большую торжественность. В состав композиции введены пророки Илия и Енох, помещенные за Богородицей и Иоанном Предтечей, вместо двух апостолов изображены двенадцать, а святители представлены сразу четырьмя — Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом и Николаем Чудотворцем. Среди припадающих к стопам Христа нет традиционных преподобных, вместо них — праведные Иоаким и Анна, Иосиф Обручник, пророк Моисей, пророчица Анна и Симеон Богоприимец. Над фигурой Христа возвышается Голгофский Крест, а на верхнем поле представлен Господь Саваоф в облаках. Известна небольшая икона на этот сюжет, вышедшая из той же иконописной мастерской (ГРМ), где композиция имеет классический вариант, но живопись абсолютно идентична публикуемому памятнику. В развернутом варианте композиция являет собой величественный соборный образ Церкви. Не случайно пророк Илия изображен здесь не в милоти, а в царственной горностаевой мантии. Икона изобилует золотом, присутствующим на ее фоне, в деталях и в разделках одежд. Из-за отсутствия рамки на лузге фон иконы сливается с золотыми полями. Такое активное звучание золота придает произведению ощущение светоносности и роскоши одновременно.
Чрезвычайно характерно для А. И. Цепкова написаны лики. Они имеют теплый оранжевый оттенок и моделированы обширными и мягкими тонированными белильными высветлениями. Рисунок орнамента на престоле, перьев архангельских крыл, разделок одежд поражает своей мелкостью и тщательностью проработки. Общий колорит произведения приглушен обильными золотыми разделками, так что возникает эффект тонированного золота, а не прописанных золотом цветных облачений. Публикуемая икона — заказное дорогое произведение, нестандартное по своему замыслу, которое было создано в одной из лучших мстёрских иконописных мастерских, принадлежавшей Александру Игнатьевичу Цепкову. Цепков происходил из династии мстёрских иконописцев, и его мастерская славилась тем, что в ней не писали икон расхожих, но только дорогие и тщательно выполненные. Не случайно вышеупомянутая икона Деисуса-Седмицы его работы была приобретена академиком Н. П. Кондаковым для своей коллекции. Несмотря на то, что стилистически произведения А. И. Цепкова очень близки работам других известных иконописцев — выходцев из Мстёры, его иконы выделяются рядом особенностей. Художник тяготел к светлой и не очень пестрой цветовой гамме и обильному использованию золота. Иконы его мастерской отличаются непревзойденной виртуозностью и тонкостью миниатюрного письма.
Сохранность. Доска двухковчежная, из трех частей, обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Доски проклеены при современной реставрации. На лицевой стороне грунтовые трещины по стыкам досок. Сколы по краям. Потертости и утраты золота, тонированные при реставрации. Вставка с реконструкцией по свечному ожогу на фигуре Христа. Мелкие тонировки по утратам.
Благовещение
Святитель Николай и мученица Александра
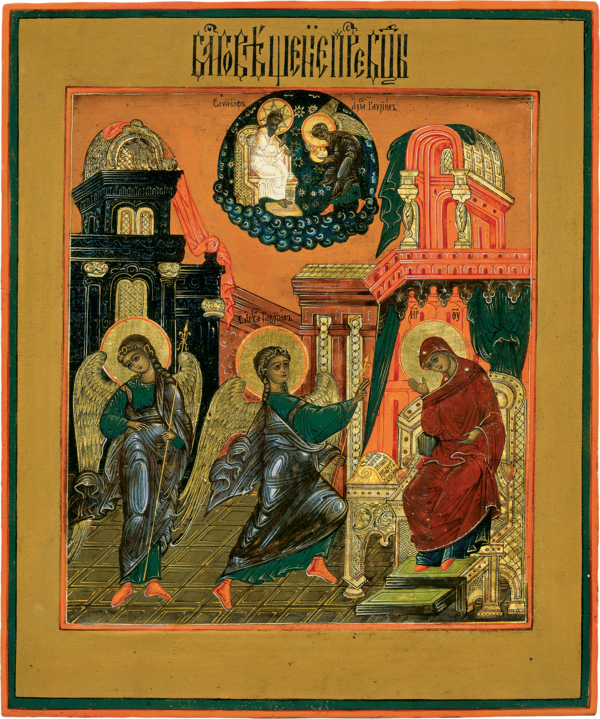

Слева: Благовещение. Конец XIX — начало XX века. Палех. Справа: Святитель Николай и мученица Александра. 1896 год. Палех
Благовещение
Конец XIX — начало XX века. Мастерская Н. М. Софонова, Палех. 32×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Композиция относится к популярному в старообрядческой среде полному варианту изображения, где архангел Гавриил представлен трижды — вверху в сцене отослания его Саваофом к Марии, внизу слева у входа в дом Богородицы и в момент Благовещения (см. кат. 47). В ней нет дополнительной сцены Благовещения у кладезя, также встречающейся на иконах этого сюжета в Новое время. Интересная деталь — стоящий перед Саваофом архангел держит в руках круглый медальон с изображением Святого Духа в виде голубя. Обычно же его показывают спускающимся в луче света, исходящем от Бога Отца к Богородице. Композиция иконы отличается простотой и лаконичностью. Архитектурные кулисы минимизированы, отсутствует изображаемая, как правило, в таком изводе колонна между двумя фигурами архангела внизу. Архитектурные формы в целом довольно традиционны, хотя они содержат элементы, связанные с влиянием западной иконографии (в частности, балдахин с ламбрекеном над сидящей Богородицей, пол «в шахмат» и др.).
Согласно клейму на обороте, икона написана в иконописной мастерской Н. М. Софонова. Николай Михайлович Софонов (1846–1911) — представитель старинной династии иконописцев, наследник и с 1860‑х годов владелец крупной иконописной мастерской в Палехе, имевшей свое отделение в Москве. На Софоновых работали художники из известных иконописных семей Белоусовых, Хохловых, Першиных, Каурцевых. Публикуемая икона по стилю живописи полностью соответствует манере, принятой в софоновской мастерской, и ориентирована на традиционное иконное письмо, особенно востребованное в старообрядческой среде. Лики имеют характерную округлость, написаны по оливковому санкирю красноватыми вохрениями в технике традиционной плави. Колорит довольно темный, построенный на сочетании глубоких контрастных цветов, дополненных золотом. Икона представляет собой яркий пример намеренной стилизации «под старину», что было общей тенденцией в русском иконописании конца XIX века, но по-разному проявлялось в различных традиционных иконописных центрах и даже отдельных мастерских. В частности, стиль, принятый у Н. М. Софонова, был, по-видимому, самым радикальным среди мастерских Палеха в подражании древним традициям.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с двумя встречными врезными плоскими шпонками на обороте. Оборот и торцы закрашены красной краской. На торцах выпады левкаса. На обрезах доски немногочисленные гвоздевые отверстия. На лицевой стороне восполненные и затонированные сколы по краям и лузге. Незначительные тонировки по утратам.
Святитель Николай и мученица Александра
1896 год. Мастерская И. И. Парилова, Палех. 93,4×56,4 см. Дерево, левкас, гравировка по левкасу, золочение, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в коллекцию.
В память коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны 14 мая 1896 года в России было создано большое количество икон, изображавших святых покровителей венценосных особ, — святителя Николая и мученицу царицу Александру. В основном к торжественному событию специально изготовлялись небольшие иконы, которые писались в ведущих московских и мстёрских иконописных мастерских и предназначались для раздачи представителям российского общества по специально составленному списку. В то же время инициатива создания подобных образов нередко исходила и снизу, когда люди различных сословий заказывали парные иконы царских тезоименитых святых для своих приходских храмов или домашних молелен. К числу последних относится и публикуемая икона, имеющая на обороте подробную надпись, из которой следует, что ее заказал крестьянин П. И. Сумитин. Учитывая большие размеры образа и то, что он был выполнен в одной из знаменитых иконописных мастерских Палеха, можно уверенно предполагать, что П. И. Сумитин являлся весьма состоятельным человеком. В надписи упомянута деревня Сумарово, где проживал заказчик иконы. Возможно, это нынешний поселок Сумарово Московской области. По своей композиции образ, созданный в мастерской И. И. Парилова, следует специально разработанной для подобного рода произведений иконографии: святые представлены фронтально, с соответствующими атрибутами (Евангелие и крест) в руках, между ними вверху помещен образ Спаса Нерукотворного. В то же время иконописец вносит в эту схему некоторую вольность, меняя местами фигуры святых. В результате мученица Александра изображена слева, по правую руку от святителя Николая, что соответствует устойчивой иерархии в изображении супружеских пар.
Манера письма иконы очень характерна для работ, создававшихся в мастерской И. И. Парилова. В ней достаточно явственно выражено влияние академического стиля, адаптированного к традиционным законам художественного языка иконописи. Особенно показателен в этом плане натуралистично выполненный позем в виде мощения плитами, пришедший в икону второй половины XIX века именно под влиянием академической живописи. Влияние живописной традиции весьма ощутимо и в передаче объема складок одежд, и в подчеркнуто округлых светлых ликах. При этом лики выполнены в популярной на рубеже XIX–XX веков технике «отборки» — мелкими красочными мазками. Среди мастеров этого времени, придерживавшихся традиционного направления иконописания, отборка считалась одной из древних техник письма, восходившей к византийским традициям. Золоченый узорчатый левкасный фон, венцы и роскошная «на эмалевое дело» орнаментальная рамка на полях отражают принятую моду имитировать в иконе живописными средствами дорогие оклады. Как правило, работы париловской мастерской отличает именно такое художественное решение. Ощущение декоративизма дополняет обильная и разнообразная орнаментика одежд, выполненная серебром и золотом. В то же время общий колорит иконы остается достаточно сдержанным и гармоничным. Иван Иванович Парилов, в мастерской которого было создано это произведение, происходил из известной палехской династии иконописцев. Начинал еще в 1840‑х годах в мастерской Софоновых, которые доводились Париловым родственниками. Известно, что у Софоновых он проработал около 40 лет и только уже в очень зрелом возрасте открыл собственное дело. Публикуемая икона, имеющая датировку, помогает уточнить время открытия им собственной мастерской.
Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей, скреплена с оборота двумя врезными сквозными высокими шпонками с филенками. Оборот, торцы и обрезы закрашены светло-зеленой краской. На лицевой стороне незначительные потертости золота. Незначительные тонированные утраты на изображении Спаса Нерукотворного. Выпады краски на орнаментах полей. Мелкие остатки старого покрытия и механические повреждения.
Господь Вседержитель
Господь Вседержитель (Москворецкий)