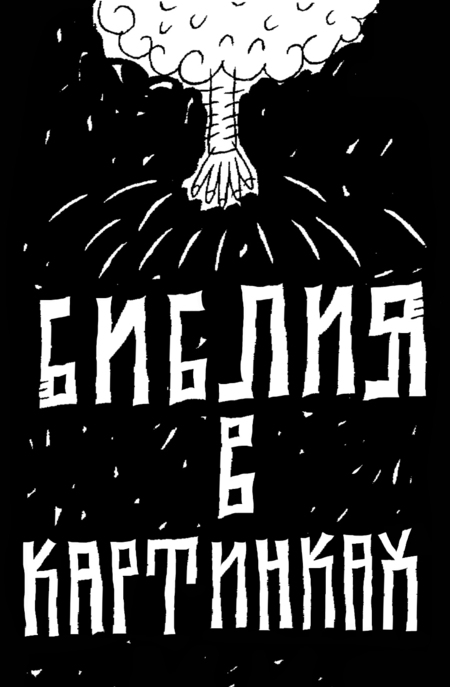Русская иконопись XVIII века из собрания Виктора Бондаренко
Богоматерь Владимирская
Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании


Слева: Богоматерь Владимирская. Начало XVIII века. Москва, круг Оружейной палаты. Справа: Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании. Начало XVIII века. Москва, Оружейная палата
Богоматерь Владимирская
Начало XVIII века. Москва, круг Оружейной палаты. 30,7×26 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Нижнего Новгорода. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Одна из важнейших особенностей произведений жалованных мастеров Оружейной палаты — подчеркнутое внимание к пластической передаче формы, особенно ликов. Если у региональных художников, периодически вызывавшихся в Москву во второй половине XVII века, усвоенные в столице новшества получали вполне оригинальную интерпретацию, часто с уклоном в сторону упрощения рисунка и нарастания декоративного начала, то художники, постоянно служившие при царском дворе, очень последовательно реализовывали в своих работах художественные принципы «живоподобного» письма. «Живоподобие» столичного образца отличает большая сложность исполнения, в основе которого — традиционное многослойное письмо высветляющимися слоями охры. То же качество характерно и для произведений художников начала XVIII столетия, хотя связь их с иконописной мастерской Оружейной палаты стала в это время носить уже чисто формальный характер. Иконописцы работают не столько на царский двор, сколько на себя, создавая иконы на продажу. Небольшая икона Богоматери Владимирской — самого популярного московского сюжета — была написана столичным мастером, связанным в своей профессиональной деятельности с Оружейной палатой. На это прежде всего указывает характер письма ликов. Они выполнены очень пластично, с ярко выраженным контрастом между темными нижними слоями живописи и сильно высветленными верхними, что типично для произведений царских мастеров начала XVIII века. Активная, но нежная подрумянка и розоватые притенения создают ощущение колористического богатства живописи ликов. Палеография надписей подражает греческой, как это было принято в рамках придворной иконописной мастерской, начиная с Симона Ушакова, и неукоснительно соблюдалось и в XVIII столетии. Чистая и звонкая палитра, использование золота наряду с серебром, применение цветных лаков, строгость декоративного решения также соответствуют работам изографов Оружейной палаты, среди которых представленный памятник имеет прямые стилистические аналогии.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления оклада. На лицевой стороне мелкие тонированные вставки на местах гвоздевых отверстий от оклада — по внутреннему контуру полей, около нимбов. Тонированные потертости и утраты золота на нимбах и в разделках одежд. Мелкие утраты орнамента по краю мафория Богоматери, восполненные при реставрации. Потемнение серебра.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании
Начало XVIII века. Москва, Оружейная палата. 35,5×29,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Особая иконография образа апостола и евангелиста Иоанна Богослова «в молчании» появилась и получила распространение во второй половине XVI века. Первоначально это были оплечные изображения Иоанна, подносящего к устам в знак безмолвия один или два пальца правой руки. К концу XVII века этот простой извод начал обретать расширенную редакцию: апостол изображается сидящим, с поколенным обрезом фигуры, постепенно появляются новые атрибуты (Евангелие, чернильница с пером, стол) и персонажи (ангел за плечом, орел — символ евангелиста). Такой «дополненный» вариант изображения часто использовался мастерами Оружейной палаты. Под влиянием западноевропейской иконографии Иоанна Богослова на их иконах нередко изображались прозрачный хрустальный бокал, из которого выползала маленькая змейка, и котел с кипящим маслом. Эти детали связаны с эпизодом жития апостола, когда по приказу императора Домициана он выпил полную чашу с ядом, а после того как яд не принес ему вреда, был ввергнут в котел с кипящим маслом, но и оттуда вышел невредимым.
На публикуемой иконе Иоанн Богослов представлен в точности так, как это было принято на рубеже XVII–XVIII веков. Его левая рука придерживает раскрытое на первых словах Евангелие от Иоанна: «В началh бh слово…» За левым плечом апостола изображен ангел, нашептывающий ему слова Священного Писания. Справа от Иоанна помещен его символ — орел, который, зажав в клюве перо, макает его в стоящую на столе чернильницу. Котел на иконе отсутствует, что объясняется, очевидно, недостатком места, — поскольку икона имеет небольшие размеры, но на столе слева от апостола стоит хрустальный бокал с еле различимой змейкой, живопись которой сильно утрачена. Таким образом, иконографически икона следует типологии, принятой у мастеров Оружейной палаты, хотя фигура апостола представлена более традиционно — не фронтально, а в развороте влево. Характер живописи иконы также не оставляет сомнений в том, что она была написана царским мастером. «Живоподобный» лик апостола выполнен чрезвычайно сложно и пластично. Объем его почти скульптурен за счет сильного контраста притенений и высветлений с активным применением белил. Палитра художника строится на любимых в Оружейной палате цветосочетаниях, притенения складок одежд прописаны цветными лаками, что придает красочному слою ощущение глубины. В щедрой орнаментике одежд использовано одновременно золото и серебро. Золотые разделки зеленого гиматия Иоанна сделаны в живописной манере, что, наряду с характером личного письма, позволяет датировать памятник первыми годами XVIII века.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. Гвоздевые отверстия на торцах и обрезах доски от крепления рубашки и оклада. На лицевой стороне обширная вставка с реконструкцией на нижнем поле, заходящая на край изображения. Аналогичная вставка на верхнем поле, заходящая на фон слева и поднятое крыло орла. Менее значительные вставки на фоне справа, на правой руке апостола. Живопись на вставках реконструирована. Потертости живописи. Золото на нимбе сильно потерто и возобновлено. Прописи на разделках одежд ангела. Надпись частично реконструирована, частично прописана по остаткам авторской.
Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития
Богоматерь Знамение


Слева: Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития. Начало XVIII века. Москва. Справа: Богоматерь Знамение. Начало XVIII века. Ярославль (?)
Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития
Начало XVIII века. Москва. 32×27,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. М. Авдониным.
Апостол Андрей Первозванный (ум. ок. 70) — первый из апостолов, которого призвал к себе Христос после крещения в Иордане, брат апостола Петра. Был рыбаком в Вифсаиде; до призвания Христом — ученик Иоанна Предтечи. После Вознесения Христова и Сошествия Святого Духа апостол Андрей совершил четыре миссионерских путешествия, проповедуя христианство в землях, лежащих к югу, северу и востоку от Черного моря. Последнее путешествие совершил в Византию, обратив ее народ в христианство. Достигнув города Патры Ахайские, был распят на косом кресте. Житие апостола составлено в Византии между 815 и 843 годами Епифанием Монахом, а в X веке оно переработано и расширено Симеоном Метафрастом. На Руси этот текст в конце XI века был переведен и дополнен оригинальным фрагментом — «Словом о приятии крещения Русской землей». В нем говорится, что св. Андрей путешествовал по Днепру и достиг гор, на которых позднее основали Киев, проповедовал там слово Божие и предрек, что в этих местах просияет свет христианской веры. В XVI столетии «киевская» легенда дополнилась «новгородской». Согласно ей, апостол Андрей прошел еще дальше на север, почти до Новгорода, и поставил там крест в районе нынешнего села Грузино. На основании этих легенд, св. Андрей Первозванный особо почитался на Руси. На рубеже XVII–XVIII веков, когда св. Андрей стал почитаться как покровитель русского флота, появляются и житийные иконы апостола.
Большинство таких икон связаны с Москвой и Петербургом и относятся к столичной художественной культуре. Житие апостола представлено на них не в виде традиционной рамы с клеймами, а отдельными немногочисленными сценами на поземе. Как правило, они включали путешествие апостола по морю, водружение креста на киевских горах и мученическую кончину. Примером могут служить столичные иконы 1721 года (ГРМ) и второй четверти XVIII века (ГЭ). Публикуемая икона оказывается одной из самых ранних в этом ряду. Сцены, разворачивающиеся у ног апостола на поземе, автор снабдил пояснительными надписями, которые сохранились только у двух из них. Первый эпизод представлен слева на переднем плане — это путешествие апостола по морю на парусном корабле. Левее и выше изображено водружение креста на высоком берегу Днепра, и, наконец, прямо под свитком в его руках — казнь на косом кресте. Живопись иконы — тонкая и сложная по исполнению, что, наряду с иконографией, говорит о ее московском происхождении. Лик выполнен в точном следовании традициям «живоподобного» письма начала XVIII века с усиленным световым контрастом санкиря и высветлений. Пейзаж написан легко, открытыми мелкими мазками, которые в передаче горок создают своеобразный импрессионистический эффект. Он запечатлен как бы с птичьего полета, что очень типично для московской традиции того времени.
Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. Нижняя шпонка утрачена. На торцах и боковых обрезах многочисленные гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне залевкашенные гвоздевые отверстия по линии лузги. Сколы древесины по наружному бортику и в углах, восполненные при реставрации. Разновременные тонированные вставки на полях. Небольшие вставки с реконструкцией и рисованным кракелюром на изображении паруса, на горках слева. Более мелкие вставки в районе нимба, на одеждах. Нимб первоначально был золотым, поновлен серебром при старой реставрации. Прописи по утратам краски и золота в разделках одежд.
Богоматерь Знамение
Начало XVIII века. Ярославль (?). 60×45 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Санкт-Петербурге. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконография Богоматери Воплощение (Знамение) — одна из наиболее широко распространенных в древнерусской иконописи. Она часто встречается и как самостоятельный сюжет, и как средник пророческого ряда иконостаса. В ее развернутом варианте дополнительно изображались шестикрылые серафим и херувим, которых обычно помещали на фоне вверху по сторонам Богородицы с Младенцем. Как правило, такой вариант применялся на иконах, устанавливавшихся в пророческий ряд иконостаса, но изредка его можно встретить и на небольших образах аналойного размера. В публикуемой иконе также использован развернутый вариант композиции — с красным херувимом и синим серафимом в верхних углах. Несмотря на довольно большие размеры, она не могла входить в пророческий чин, поскольку для нее был сделан серебряный оклад, что предполагает индивидуальное почитание образа в доме или храме. Композиция иконы не совсем обычна — пропорции фигуры Богоматери слегка вытянуты, что придает ее облику тонкость и хрупкость.
Стилистически икона ориентирована на манеру «живоподобного» письма, принятую в иконописной мастерской Оружейной палаты в конце XVII — начале XVIII века, однако отличается рядом особенностей, свидетельствующих о ее нестоличном происхождении. Поскольку оклад, одновременный иконе, был выполнен в Ярославле, можно предполагать, что она написана там же. Участие ярославских иконописцев в крупных работах при дворе в XVII веке способствовало усвоению ими новых стилистических принципов письма, которые в полной мере проявились в Ярославле только на рубеже XVII–XVIII столетий. Несколько облегченная по сравнению с московскими образцами система письма ликов охрами по сероватому санкирю, холодноватого оттенка высветления, довольно сильный румянец в нижней части щек и более простой рисунок черт лика — достаточно типичны для ярославского иконописания начала XVIII века. Несколько необычный формат иконы, наличие оклада говорят о том, что, скорее всего, она является списком с какого-то чтимого образа. Данную версию подтверждает еще одна происходящая из Ярославля икона Богоматери Знамение в окладе, хранящаяся в частном собрании и близкая публикуемому памятнику своими размерами (54×42 см) и иконографией, отличаясь единственной деталью — державой в руке Младенца. Стилистически эта икона относится к той линии ярославского иконописания первой трети XVIII века, которую характеризует ориентация на костромскую художественную традицию, в то время как представленный здесь памятник более точно следует московской. Известно, что в Ярославле имелась своя чтимая икона Богоматери Знамение, которая находилась на восточной стороне Власьевской башни, служившей въездными воротами в Земляной город. Икона была написана прямо на стене сразу после возведения башни в 1660 году. На образе присутствовали изображения серафима и херувима, как это видно в его воспроизведении на иконе «Святые князья Федор, Давид и Константин, Василий и Константин Ярославские и преподобный Александр Свирский в молении образу Богоматери Знамение» рубежа XVII–XVIII веков (ЯХМ). Весьма вероятно, что воспроизводимая здесь икона восходит именно к этому образу.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне многочисленные мелкие тонированные вставки на местах гвоздевых отверстий от крепления оклада (контуры фигур, венцы, углы и контуры полей). Утраты и потертости краски на одеждах внизу, на рукаве Младенца слева. Потертости двойникового золота и золотых разделок одежд, надписей.
Богоматерь Тихвинская (Югская?)
Богоматерь Тихвинская


Слева: Богоматерь Тихвинская (Югская?). Начало XVIII века. Центральная Россия. Справа: Богоматерь тихвинская. Начало XVIII века. Центральная Россия
Богоматерь Тихвинская (Югская?)
Начало XVIII века. Центральная Россия. 106,8×84,1 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона в целом следует иконографии чудотворного образа Богоматери Тихвинской, но не является точным списком с него. Ее размеры не соответствуют размерам прославленной иконы, а изображение Младенца заметно отступает от образца. Так, он показан сидящим абсолютно ровно, с прямой спиной; колено левой ноги поднято значительно выше, соответственно приподнята и обращенная на зрителя стопа правой. Голова Младенца уменьшена в размерах относительно оригинала, а в правом нижнем углу под рукой Богоматери виден край и испод ее мафория.
Все эти признаки указывают на то, что икона создана, скорее всего, как увеличенный список чудотворного образа Богоматери Югской, прославившейся в Дорофеевой пустыни под Рыбинском. Образ был принесен в 1615 году в родные края преподобным Дорофеем, уроженцем села Нижне-Никульское близ Рыбинска, из Псково-Печерского монастыря, где он монашествовал. Согласно Сказанию об иконе, составленному в XVIII веке на основе монастырского летописца, после остановки Дорофея в пути на ночлег на берегу реки Юги икона не захотела сойти с дерева, на которое он ее поставил. На этом месте была основана Югская пустынь, затопленная в 1941 году при строительстве Рыбинского водохранилища. Чудотворный образ не сохранился, но по поздним копиям с него известно, что он относился к типу Богоматери Тихвинской и имел те особенности, которые присутствуют на публикуемой иконе. В таком случае она является самым ранним из сохранившихся списков с Югской иконы. Образ написан в «живоподобном» стиле, старательно следующем столичным образцам. В то же время недостаточно выраженная пластика, использование более доступных красочных материалов, упрощенный рисунок картушей с монограммами говорят о том, что он создан в провинции. Среди произведений, выполненных в Рыбной слободе в конце XVII — начале XVIII века, памятник не находит стилистических аналогий, выделяясь гораздо большим профессионализмом исполнения. Очевидно, что его автор происходил из художественного центра, близкого к Москве и ориентировавшегося на ее традиции.
Сохранность. Доска без ковчега, из четырех частей. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Доска была стесана на половину толщины над верхней и под нижней шпонками, а также по боковым краям. Утраты надставлены многочисленными фрагментами древесины. Центральный стык скреплен шпонкой «ласточкин хвост». На лицевой стороне на новых частях доски подведен новый левкас. Вертикальные трещины грунта по стыкам досок. Гвоздевые отверстия на нимбах от крепления утраченных венцов, частично заделанные. Вставка с реконструкцией живописи по центральному стыку, проходящая по лику Богородицы. Тонировки по утратам на лике Младенца, прописи по контуру Его волос. На правом картуше сильная потертость двойникового золота и выпады левкаса до паволоки. Утраты золотых и серебряных разделок одежд. Многочисленные утраты и тонировки по утратам на одеждах. Прописи на фоне.
Богоматерь Тихвинская
Начало XVIII века. Центральная Россия. 31,3×28 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Небольшая икона Богоматери Тихвинской, традиционная по своей иконографии, относится к многочисленным спискам с широко почитавшегося в России чудотворного образа. Подобные списки предназначались для домашнего бытования и частной молитвы. Икона первоначально имела оклад, который, судя по оставшимся следам гвоздевых отверстий, закрывал только поля и дополнялся отдельно крепившимися венцами. Форма доски с наружным выпуклым бортиком предполагала популярный во второй половине XVII — начале XVIII века оклад «с трубами».
Икона написана в «живоподобном» стиле, который на рубеже XVII–XVIII веков широко разошелся по провинции и был усвоен мастерами многих региональных центров. Художник дает свою интерпретацию столичной манере, в чем-то упрощая, а в чем-то форсируя ее основные черты. Лики выполнены с минимальным количеством наложенных красочных слоев, причем каждый из них (санкирь, вохрение, белила, подрумянка) усилен в своем цветовом качестве, а рисунок черт заметно акцентирован. Такие решения можно встретить в разных провинциальных центрах этого времени, в частности в ростовских землях. Цветовая палитра мастера небогата; очевидно, у него не было возможности обеспечить себя дорогими и редкими пигментами. Тем не менее, он использует цветной малиновый лак в отдельных деталях и в притинках одежд, чем показывает свое знание особенностей техники письма столичных художников. Хотя малиновые картуши с монограммами предельно просты по форме, мастер использует активную орнаментику в одеждах Богородицы, придавая иконе явственное декоративное звучание. А теплота и трогательная чистота образов в полной мере искупают непритязательность художественной манеры автора иконы.
Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, немного покоробленная. Две врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Многочисленные гвоздевые отверстия на торцах и обрезах от утраченного оклада, а также на лицевой стороне в районе лузги (залевкашены и тонированы). Сколы древесины по бортику доски внизу. Обширные утраты левкаса на нижнем поле, менее значительные по боковым краям. Вставка с реконструкцией живописи в нижней части ковчега справа; по вставке на левой ножке Младенца и пальцах левой руки Богоматери выполнен рисованный кракелюр. Небольшие вставки на нимбах по местам крепления утраченного венца. Потертости и утраты двойникового золота на нимбах. Тонировки твореным золотом на нимбах и по разделкам одежд. Опушь и лузга прописаны. Слева на поле и фоне оставлен фрагмент с послойным снятием покрытия и записи.
Богоматерь Живоносный источник
Царь царем


Слева: Богоматерь Живоносный источник. Первая треть XVIII века. Центральная Россия Справа: Царь царем. 1722 год. Череповец
Богоматерь Живоносный источник
Первая треть XVIII века. Центральная Россия. 136,5×78,5 см. Дерево, левкас, темпера, золочение, серебрение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконография Богоматери Живоносного источника сложилась в византийском искусстве в связи с прославлением расположенного близ Константинополя целебного источника. По преданию, он был найден еще в V веке Львом Макеллом, который, став императором, выстроил над ним храм, где произошли многочисленные исцеления. В XIV веке историю чуда обретения источника изложил в особом Сказании византийский церковный историк Никифор Каллист, тогда же был установлен день его празднования — пятница Светлой седмицы, и разработана иконография. Поскольку в храме над самим источником находился мозаический образ Богородицы, то на изображениях Живоносного источника представляли сидящую в чаше Богоматерь с Младенцем Христом на руках. Эта иконография довольно рано стала известна на Руси, но долгое время никакого развития не получала, хотя эпизодически о ней вспоминали на рубеже XVI–XVII веков. Ее распространение началось только после реформ патриарха Никона, когда в состав богослужебных книг (Цветная Триодь) по греческому образцу вошли Служба Живоносному источнику и Сказание о нем. Уже в 1670-е годы мастерами Оружейной палаты было написано несколько икон на этот сюжет. Тем не менее, до начала XVIII века она использовалась за редким исключением только царскими мастерами. В Новое время данная иконография вышла за рамки столичного искусства, но встречается нечасто. Богословское содержание иконографии значительно шире, чем отражение почитания целебного источника: Богоматерь олицетворяет здесь новозаветную Церковь, дающую верным «воду спасения» — своего сына как источник бесконечной милости человечеству и как океан благодати.
К тому времени, когда эта иконография вновь пришла в русскую иконопись, в греческой традиции она уже имела расширенную композицию, включавшую в себя ангелов по сторонам Богоматери, а также бассейн, куда стекает вода из чаши и вокруг которого располагаются толпы больных и страждущих — святители, монахи, благоверные царицы. Пришедшие к источнику пьют из него воду, омывают свои лица и наполняют водой сосуды. Все представленные здесь персонажи иллюстрируют конкретные чудеса, произошедшие от источника, каждая из таких сцен сопровождается пояснительной надписью. Всего на публикуемой иконе показано 14 чудес. Живопись иконы отличается крайне интересным сочетанием столичных и провинциальных черт. Она создана в манере, очень близкой той, в которой работали мастера московской Оружейной палаты. Наиболее качественным в ней является личное письмо, выполненное по всем правилам «живоподобия», с прекрасной пластической передачей объема и тщательной проработкой рисунка. В иконе использованы золото и серебро, что также характеризует произведение как созданное московским мастером, близким Оружейной палате. В то же время в доличном письме — изображении одежд, пейзажа, бассейна и т. п., присутствует заметная упрощенность. Художник применяет типичные для Москвы пигменты, но использует их чрезвычайно бережно. Так, малиновый бакан, которым написан мафорий Богоматери, одежды ангелов и некоторых страждущих, у него весьма сильно выбелен. Чувствуется и композиционный дисбаланс — фигура Богоматери слишком велика по отношению к страждущим, из-за чего композиция в целом кажется несколько неустойчивой. Все эти особенности не позволяют связать произведение с московской художественной традицией напрямую. Возможно, икону писали два мастера, один из которых имел хорошую столичную выучку, а второй сохранял навыки провинциальной художественной среды. С другой стороны, традиции Оружейной палаты в начале XVIII века уже вышли за пределы Москвы, благодаря возвращению в провинцию работавших в ней мастеров, и были достаточно точно восприняты, хотя и в слегка упрощенном виде, в целом ряде провинциальных художественных центров.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, на обороте две врезные сквозные шпонки. Обе шпонки подтесаны. Доска была опилена по боковым и нижнему краям, надставлена новыми планками до первоначальных размеров. На лицевой стороне тонированные левкасные вставки на надставленных частях доски, в области нимбов Богоматери и Младенца (в местах крепления утраченных венцов). Потертости и утраты золота на фоне и серебра на чаше и крыльях ангелов, тонированные при реставрации. Черневой рисунок на серебряных деталях усилен и местами восстановлен. Тонировки по утратам.
Царь царем
1722 год. Иван Никифоров Уланов, Череповец. 110,2×50,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание, реставрация завершена В. В. Ковальчуком.
Иконография Христа «Царь царем», основанная на текстах XIV и XIX глав Апокалипсиса, появилась в русской иконописи в 1670-х годах под западным влиянием. Наиболее ранний известный ее пример — небольшая икона мастера Оружейной палаты Ивана Максимова, выполненная им в 1677 году по заказу Анны Строгановой для церкви Похвалы Богоматери в селе Орёл в Пермском Усолье (ПГХГ). Начало широкому распространению этого извода в русской иконописи положил большой образ из местного ряда иконостаса Архангельского собора Московского Кремля, созданный царскими мастерами в 1678–1680 годах и послуживший основным образцом для последующих реплик (ГИКМЗМК). Согласно тексту Апокалипсиса, Христос должен был изображаться в облаках, в красных (обагренных кровью) одеждах, с несколькими венцами на голове, с железным жезлом и исходящим от уст острым мечом: «И вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому… Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много венцов… Он был облачен в одежду, обагренную кровью… Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным… На одежде Его и на бедре написано имя „Царь царей и Господь господствующих“.
В силу выраженного «латинства» иконография «Царь царем» первоначально пользовалась популярностью только у изографов иконописной мастерской Оружейной палаты, но изредка встречалась и у провинциальных иконописцев, ориентированных на царских мастеров. При этом в их работах нередко отсутствовало изображение исходящего от уст Христа меча. В XVIII столетии иконография постепенно распространилась и в провинции. Икона Ивана Никифорова Уланова воспроизводит слегка сокращенный вариант иконографии «Царь царем», где акцент с мистического видения Судии переносится на царственное достоинство Христа. В соответствии с текстом Апокалипсиса, его узорчатые золотые одежды имеют красный оттенок, в правой руке жезл. Исходящий от уст меч отсутствует, но есть держава в левой руке, а многочастный венец заменен императорской короной. От описания Апокалипсиса осталось также изображение облаков, клубящихся под престолом. В общих чертах мастер ориентируется на столичную манеру письма, но воплощает ее в сугубо провинциальной редакции — пропорции тела меняются, оно становится коренастым, фигура уплощается, пластика лика ослабевает и дополняется графической проработкой. В то же время художник широко использует цветные лаки, прочно вошедшие в начале XVIII столетия в арсенал художественных средств не только московских, но и провинциальных иконописцев. Об авторе иконы — Иване Никифорове Уланове — практически ничего не известно. Он не доводился родственником известным царским иконописцам Кириллу и Василию Ивановым Улановым, но, возможно, состоял в родстве с холуйскими мастерами, носившими ту же фамилию. Из надписи на иконе следует, что в 1722 году он был иконописцем Воскресенского монастыря в Череповце. Икона писалась для местного ряда иконостаса, для постановки рядом с Царскими вратами. Судя по размерам образа, это был небольшой деревянный сельский храм. Автор указал в подписи название села, но, к сожалению, на этой части автографа произошел выпад грунта. Скорее всего, икона пережила пожар и была спасена из огня, о чем свидетельствует застаревшая копоть на ее обороте.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, с оборота скреплена двумя врезными сквозными узкими шпонками. Стык досок реставрировался, дополнительно укреплен двумя «ласточкиными хвостами» над верхней и под нижней шпонкой. На обороте следы копоти. Боковые края доски опилены при подгонке в новое гнездо. На лицевой стороне грунтовая трещина по стыку досок справа. Тонированные вставки на нижнем поле. Сколы по краям, опушь прописана. Многочисленные тонированные утраты красочного слоя и мелкие прописи. Изображение Христа Вседержителя на панагии восстановлено по остаткам.
Благовещение
Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей


Слева: Благовещение. Конец XVII в. Вологодские земли. Справа: Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей. Начало XVIII в. Ярославское Заволжье
Благовещение
Конец XVII века. Вологодские земли. 102,7×50 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославской области. Реставрирована до поступления в собрание.
Композиция иконы восходит к древней схеме, воплощенной в так называемом «Устюжском» Благовещении, для которого характерно ростовое изображение архангела Гавриила и Богородицы. Автор публикуемого памятника в деталях уже заметно отошел от древнего образца: сцена помещена в интерьере, вверху в облаках Господь Саваоф посылает архангела к Марии, на ее лоне нет характерного для древнего извода символического изображения Младенца, как бы входящего в нее и иллюстрирующего догмат о непорочном зачатии. Несмотря на то, что иконография Благовещения в русской иконописи к XVII веку была уже очень разнообразной, художник выбрал самый архаичный вариант, что, по-видимому, связано с местными иконографическими традициями, поскольку на русском Севере этот извод встречается очень часто.
По краям иконы, как будто на ее полях, представлены шесть дополнительных святых. Слева — преподобный Сергий Радонежский, святой целитель Косма и преподобная Феодора. Справа — преподобный Дионисий Глушицкий, святой целитель Дамиан и мученица Анастасия. Такое обилие дополнительных фигур, как и принцип их размещения, очень нетипичны для больших храмовых икон, но характерны для домашних образов малого размера. По-видимому, художник подражал здесь маленьким иконам, следуя в этом воле заказчицы. Ее плохо сохранившееся в надписи имя легко реконструируется благодаря присутствию на иконе преподобной Феодоры — тезоименитой святой. К числу домашних святых относится, очевидно, и мученица Анастасия. Изображение святых Космы и Дамиана обусловлено их «врачебной» специализацией как святых помощников. Образ преподобного Дионисия Глушицкого позволяет связать создание памятника с местами, находящимися в окрестностях Сосновецкого Глушицкого монастыря на реке Глушице в вологодских землях. Не исключено, что икона была вложена в один из монастырских храмов. Стиль живописи иконы типичен для северной русской провинции. Цветовая гамма светлая, построена на сочетании красных и зеленых тонов, дополненных двойниковым золотом, имеющим холодноватый оттенок. Мастер пытался доступными средствами имитировать приемы из арсенала городских художников. Например, он работал по золоту цветными лаками, однако использовать дорогие малиновый бакан и зеленую ярь-медянку ему было затруднительно. Поэтому он бережно использовал бакан, жидко его разводя, а ярь-медянку имитировал зеленым земляным пигментом. Весьма выразительно написаны лики — округлые, с усиленными контурной обводкой по векам глазами. Художник старался следовать «живоподобному» стилю, с образцами которого он, очевидно, был знаком. Складки одежд проработаны динамичными белильными разделками. Несмотря на скромность художественных средств, провинциальный мастер создал убедительный образ, исполненный большой чистоты и обаяния.
Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей. На обороте две врезные сквозные шпонки. Доски покоробились и разошлись по стыку. Стык замастикован, скреплен при реставрации двумя «ласточкиными хвостами». На торцах по стыку врезаны деревянные бруски. Единичные гвоздевые отверстия на торцах и обрезах. На лицевой стороне узкая тонированная вставка по стыку. Обширная тонированная вставка на нижнем поле, заходящая в поле ковчега. Вставки на местах крепления утраченных венцов архангела и Богоматери. Небольшие вставки по краям. Тонированные утраты и потертости двойникового золота.
Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей
Начало XVIII века. Ярославское Заволжье. 75×91,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
На иконе представлен пантеон святых, почитавшихся на Руси, особенно в крестьянской среде, в качестве покровителей скотоводов. По-видимому, она создавалась как храмовый образ для сельской деревянной церкви, посвященной кому‑то из представленных художником святых помощников. Святитель Модест, патриарх Иерусалимский (ум. 634) — уроженец Севастии Каппадокийской в Малой Азии. Был настоятелем обители преподобного Феодосия Великого, основателя общежительного монашества в Палестине. Во время нападения на Сирию и Палестину персидского царя Хозроя II, когда патриарх Иерусалимский Захария был захвачен в плен, св. Модест управлял Палестинской Церковью. При нем останки избиенных христиан погребли в обители святого Саввы Освященного и восстановили храм Гроба Господня в Иерусалиме. По кончине патриарха Захарии, вернувшегося через четырнадцать лет из плена, св. Модест был возведен на патриаршую кафедру и скончался в глубокой старости. Как покровитель скотоводов стал почитаться сравнительно поздно, на рубеже XVII–XVIII веков, потеснив издавна чтившегося в этом качестве святителя Спиридона Тримифунтского. В народной иконе этого времени его часто изображали со сценой спасения от змея скота, помещавшейся внизу на поземе. Особым указом Священного Синода было запрещено изображать св. Модеста со скотом — такие иконы изымались из храмов как неканоничные. Тем не менее, их сохранилось достаточно много, особенно на Севере. В народной интерпретации нередко имя святого писалось как «Медост».
Священномученик Власий (ум. ок. 316), епископ города Севастии в Каппадокии, напротив, почитался на Руси как помощник скотоводов с самых древнейших времен на основании некоторых сюжетов его жития; кроме того, имя святого созвучно с именем древнеславянского языческого «скотьего» бога Велеса. В юности Власий был пастухом, во время гонений на христиан скрывался в пустынном месте на горе Аргос, где лечил зверей. Принял мученическую кончину при императоре Ликинии. Мощи святого хранились в храмах Константинополя, затем их частицы разошлись по всему миру. На Руси особым почитанием пользовался в Новгороде и северных землях, поскольку скотоводство было там основным занятием крестьянства. Изображения Власия встречаются в русском искусстве с XII века. В XVIII столетии почитание святого полностью уходит в народную среду, где он считался покровителем не только крупного рогатого скота, но и свиней: в одном из эпизодов жития волк, утащивший у вдовицы единственного поросенка, по молитве святого вернул его обратно. Мученики Флор и Лавр (II век) — братья-близнецы, жившие в Византии, затем в Иллирии, ученики двух христиан-каменотесов. Строя храм Геракла по повелению царя, они исцелили сына жреца, который вместе с отцом уверовал во Христа. После окончания постройки храма братья и обращенные в христианство строители свергли в нем идолов, за что были казнены. Флор и Лавр почитались на Руси как покровители коневодов, что нашло отражение в популярной иконографии «Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре», литературный источник которой до сих пор не выявлен. На таких иконах святые предстают перед архангелом, вручающим им поводья коней.
Мастер счел нужным ввести в икону также и клейма житий святителей Модеста и Власия, поместив их двумя рядами вверху и внизу композиции, что в целом очень необычно для русских житийных икон. Повествование в обоих циклах очень краткое. В житии Модеста художник ограничился изображением сцен, связанных с детством святителя и историей его родителей. Цикл клейм, посвященный Власию, носит более полный характер, представляя ключевые эпизоды его жития. Икона создана народным мастером, тесно связанным с крестьянской средой, о чем говорит не только ее сюжет, но и стиль живописи. В то же время в характерной для подобных произведений небогатой цветовой гамме, где преобладают охра, глауконит и сурик, активно звучит синий цвет, редко использовавшийся в это время. Фигуры святых имеют вытянутые пропорции, что также не совсем характерно для народной иконы, где фигуры, как правило, довольно коренасты. В отдельных деталях художник соединяет традиционную и новую трактовку форм. Например, горки он передает то привычными лещадками, то холмиками, пришедшими в русскую иконопись в последней четверти XVII века. Лики святых соединяют элементы «живоподобия» с традиционными приемами письма. При всей сдержанности художественных приемов образ не лишен столь важного качества народной иконы, как декоративность. Там, где это допустимо, мастер активно использует орнаменты в одеждах, и даже элементы пейзажа и архитектуры превращаются у него в своеобразный орнамент.
Сохранность. Доска с ковчегом; составлена из двух частей и надставлена слева, сверху наложена перекладина. Доски расходились с выпадами левкаса по стыкам. На лицевой стороне вставки с реконструкцией по стыкам, на одеждах Флора и Модеста, в правом нижнем углу средника, на нижнем поле, вверху на левом поле (заходит на первое клеймо), на поземах в третьем и четвертом клеймах нижнего ряда. Реконструкция утраченных ликов в первом (мать Модеста и служанка) и втором (слуга слева и отец Модеста) клеймах верхнего ряда. Надписи ко второму и третьему клеймам нижнего ряда не сохранились, надпись к пятому клейму сохранилась фрагментарно. Сильная потертость двойникового золота. Тонировки по утратам по всей поверхности. На правом и левом поле оставлены фрагменты старого покрытия и слоев записей.
Великомученик Димитрий Солунский, в житии
Воскресение — Сошествие во ад
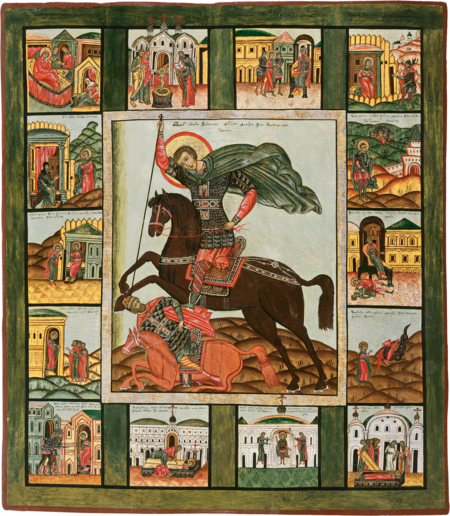

Слева: Великомученик Димитрий Солунский, в житии. Первая четверть XVIII века. Север. Справа: Воскресение — Сошествие во ад. Первая четверть XVIII века. Север
Великомученик Димитрий Солунский, в житии
Первая четверть XVIII века. Север. 106,5×94,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.
Великомученик Димитрий Солунский (ум. ок. 306) — один из наиболее чтимых святых в православном мире, грек благородного происхождения и проконсул Ахайи. Проповедовал христианство в родном городе Фессалоники (Солуни). Когда в город прибыл римский император Максимиан, св. Димитрий был арестован перед началом гладиаторских боев. Нестор, друг и ученик св. Димитрия, вызвался сразиться с любимцем императора гладиатором Лием и в бою убил его. Нестор был обезглавлен, а св. Димитрий исколот копьями. Тело великомученика погребли на месте его убийства. У могилы св. Димитрия совершилось много чудес и знамений. По житию святого известны чудеса о его покровительстве и помощи Фессалоникам: неоднократно при грозившей городу опасности он являлся на коне в боевом вооружении, чтобы помочь жителям. Одно из таких явлений, когда св. Димитрий сразил копьем осаждавшего Фессалоники царя Калояна, получило особую иконографию, известную как «Чудо св. Димитрия». Святой пользовался большой популярностью в Византии и Древней Руси, вследствие чего его изображения получили широкое распространение. Житийные иконы св. Димитрия известны с XVI века. В их среднике иногда помещали не ростовое изображение великомученика, а «Чудо св. Димитрия», как и на представляемой иконе. Она была написана народным мастером, поэтому, как это часто бывает в подобных иконах, порядок житийных клейм в ней нарушен. Так, клеймо 9, где св. Димитрий научает жителей Солуни христианской вере, должно быть четвертым. После заточения святого (клеймо 4) вклиниваются два посмертных чуда (клейма 5–6), нарушающие хронологию повествования. Клеймо 14 должно следовать за одиннадцатым, предваряя посмертные чудеса. Тему защиты св. Димитрием родного города от врагов художник акцентировал не только в среднике, но и введением дополнительного сюжета в житийный цикл (клеймо 6).
Как это нередко бывало у народных мастеров, не слишком хорошо знавших житие изображаемого святого и вольно его интерпретировавших, в клеймах присутствуют очевидные ошибки. Например, чудо со скорпионом, которого св. Димитрий убил в темнице, переистолковано как чудо о змие (клеймо 10) — очевидно, не без влияния жития другого великомученика и воина — Георгия Победоносца. Редчайший сюжет — чудо о епископе Киприане (клеймо 5), который следовал из Африки в Константинополь, но был захвачен в рабство славянскими племенами. Из плена его вызволил св. Димитрий, приведший епископа в Фессалоники. По возвращении в Африку Киприан выстроил посвященный св. Димитрию храм, в котором местные жители лечились от укусов скорпионов с помощью масла из лампады от иконы святого. По-видимому, мастер включил данный сюжет потому, что видел в нем основание почитать св. Димитрия как защитника от ядовитых укусов, что было очень важно для крестьян, занимавшихся скотоводством. Не случайно эта сцена вторгается в хронологию житийного повествования и помещена на видном месте, а за ней следует упомянутое чудо о скорпионе-змие. Совершенно уникален сюжет клейма 12, литературный источник которого не ясен, — о воровавших свечи у гроба святого. Очевидно, он был выбран иконописцем в назидательных целях. Если наивная образность иконы полностью соответствует народным представлениям о добре и зле, то ее художественный язык — непритязательной эстетике народной иконописи. При общем композиционном лаконизме мастер не забывает о деталях — например, выписывает подковы на конях Димитрия и Калояна. В его палитре всего несколько красок, но с огромным удовольствием он выводит узоры на одеждах и конской упряжи. Количество персонажей в клеймах максимально сокращено, а пространство сведено к плоскости переднего плана. В то же время мастер демонстрирует знание столичных приемов в письме горок холмиками и полов, выложенных плитами «в шахмат», а на фоне средника слева даже пытается дать притенение более темной краской. При этом морду коня он умудряется передать одновременно и в фас и в профиль, следуя в этом странном решении иконописной традиции давать об изображаемом предмете наиболее полное представление. Эти незатейливые и всегда очень неожиданные детали придают народной иконе ни с чем не сравнимое обаяние и в полной мере искупают недостаток «ученых» знаний ее авторов.
Сохранность. Доска хвойной породы дерева, без ковчега, из четырех частей, скреплена с оборота двумя врезными сквозными шпонками. Шпонки заменены. Доски основы проклеены, трещины на обороте зачинены. На торцах следы гвоздевого крепления утраченного оклада. На лицевой стороне вставки с реконструкцией живописи по стыкам, на нижнем поле с заходом на часть изображения клейм нижнего ряда. Тонировки и прописи по утратам по всей поверхности. Реставрационные прописи твореным золотом и серебром по утратам на одеждах и фоне.
Воскресение — Сошествие во ад
Первая четверть XVIII века. Север. 32,8×8,7 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
В конце XVI века под влиянием западных изобразительных источников в традиционную иконографию праздника Воскресения Христова как Сошествия во ад была включена сцена Восстания Христа от гроба. Таким образом, символическая трактовка Воскресения, акцентирующая внимание на искупительной жертве Спасителя, дополнилась изображением самого события. Одновременно добавились сцены битвы ангелов с Сатаной и шествия праведных в рай. Ближе к середине XVII века такая композиция обрела завершенную форму: Восстание от гроба, обычно помещавшееся в правом нижнем углу, заняло одно из центральных мест, обе сцены стали писаться друг над другом, причем Сошествие во ад переместилось вниз, а диагонали шествия ангелов в ад и праведных в рай стали объединять их в единое композиционное целое. Выработка нового варианта иконографии была связана, по всей видимости, с поволжскими мастерами, в Москве он встречается очень редко.
Эта изобразительная формула могла свободно дополняться и другими сценами, сюжетно связанными с Воскресением. Как правило, их охотно использовали в больших храмовых образах, в маленьких же иконах такие решения встречаются нечасто. В основном, мастера ограничивались кратким вариантом иконографии, как на публикуемом памятнике. Повествование здесь начинается от фигуры восставшего из гроба Христа в верхней части композиции. Христос попирает ногой откатившийся от гроба камень, справа спят сторожащие гробницу воины. Слева от Спасителя ангелы начинают свое шествие к адским вратам, где завязывается битва с бесами. В левом нижнем углу показана красная раскрытая пасть Левиафана. Здесь же Христос, спустившийся в ад, отворяя адские врата, выводит из него праведных, и они идут вверх к воротам рая, где стоит благоразумный разбойник. Выше, уже в раю, он представлен еще два раза — беседующим с Иоанном Предтечей и апостолом Петром, а также встречаемым пророками Илией и Енохом. Первая из этих сцен, в которой разбойник встречает в раю шествие праведников, связана с традициями начала XVII века; она изображалась, когда этот вариант иконографии еще находился в стадии становления. После того как композиция окончательно сложилась, сцена становится архаичной и бытует только в периферийных, главным образом северных памятниках. Публикуемая икона также связана с художественными традициями Русского Севера конца XVII — начала XVIII века. Сплошное двойниковое золочение полей и фона, очень светлый колорит, сильная разбелка личного письма типичны для многих памятников этого региона. Сложное устройство доски, совмещающее торцевые и оборотные шпонки, является признаком раннего XVIII века, когда в локальных иконописных центрах опытным путем вырабатывалась собственная система изготовления иконной основы. Возможно, памятник связан с культурой поморского региона, и его стилистика отчасти предвосхищает дальнейшее развитие местной традиции в XVIII столетии.
Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми и одной врезной оборотной шпонками. На обороте многочисленные процарапанные надписи, свидетельствующие о поновлении образа в XIX веке. На обрезах и торцах остатки гвоздей. На лицевой стороне сильная потертость и утраты золота фона и полей. Утраты затонированы. Опушь, разгранка по лузге, обводки нимбов, монограммы Христа написаны заново. Ошибочно выполнены крещатые нимбы на изображениях благоразумного разбойника, так же как и монограмма Христа рядом с ним. Тонированные утраты золота в разделках одежд, мандорл и на нимбах. Авторская надпись на верхнем поле сохранилась фрагментарно. Сильные потертости авторской живописи, тексты на свитках прописаны.
Богоматерь Молченская (в окладе)
Мученик Мамант


Слева: Богоматерь Молченская (в окладе). Вторая четверть XVIII века. Путивль, Софрониева пустынь (?). Справа: Мученик Мамант. 1742. Москва (?)
Богоматерь Молченская (в окладе)
Икона — вторая четверть XVIII века. Путивль, Софрониева пустынь (?). Оклад и риза — 1745 год. Москва. 32,7×23,3 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение; серебряная фольга, речной жемчуг, бирюза, рубины, золото, низание. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована до поступления в собрание.
Чудотворная Молченская икона Богоматери — святыня Молченской (Молчанской) Богородице-Рождественской Софрониевой пустыни близ Путивля. Поздняя легенда возводит образ к началу XV века, когда он был обретен в ветвях дерева неким бортником близ болота Молчень. Туда этот образ принесли монахи из разоренного Киева; он погиб в пожаре в начале XVII века, а затем заменен списком. Однако согласно документальным источникам (московским реестровым росписям), Молченская икона явилась 24 апреля 1635 года. Списки с нее известны с XVII столетия, сравнительно большое их количество связано с тем, что они создавались в качестве раздаточных образов обители. Молченская пустынь активно посещалась в XVII веке, поскольку Путивль был пограничным городом Московского государства, и все приезжавшие в Москву, в том числе многочисленные греческие монахи и иерархи, задерживались здесь до особого разрешения дальнейшего проезда. Благодаря раздаточным образам, иконография стала известна на Балканах и использовалась там местными мастерами. Икона Богоматери Молченской представляет собой поясной вариант возникшего в XVI веке иконографического типа «Горы Нерукосечной», поэтому на списках с нее с XVIII века нередко присутствуют типичные для этого извода особенности: покрытый клубящимися облаками мафорий Богородицы и медальоны с ликами вместо звезд приснодевства, хотя на памятниках XVII столетия мафорий изображался только традиционно.

Раздаточные иконы Молченского монастыря обычно имели на нижнем поле пояснительную надпись. На публикуемой иконе она тоже присутствует, но, поскольку поля перелевкашивались, название иконы приведено неточно — «Путимская» вместо «Путивльская». Именно так она названа на окладе, имеющем московское клеймо 1745 года, откуда поновитель скопировал надпись. Икона же, скорее всего, была создана в Путивле как раздаточный образ, а оклад для нее сделали в Москве, где и возникла неточность в передаче названия образа. Образ написан в «живоподобном» стиле, восходящем к традициям царских мастеров конца XVII века и широко распространенном в русской провинции во второй четверти XVIII столетия. Известны довольно близкие аналогии иконе, которые также связывают с местным монастырским производством. Судя по великолепному чеканному окладу и шитой ризе, выполненным вскоре после создания образа, он пользовался большим почитанием в семье его владельцев.
Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, из двух частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обороте небольшое расхождение по стыку досок. На лицевой стороне поля пролевкашены и прописаны заново при поновлении иконы в первой половине XIX века, в сколах виден первоначальный темно-зеленый цвет полей. Мелкие вставки в правом нижнем углу. Золото на фоне сильно утрачено, утраты затонированы твореным золотом. Обводки нимбов, буквы и лузга прописаны. Оклад. Деформация и разрывы металла, патина. Риза. Утрата одного двойного золотого каста с камнями на кайме мафория Богоматери слева.
Мученик Мамант
1742. Ф. Масягин, Москва (?). 31,3×14,8 см. Дерево, левкас, масло. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Мученик Мамант (ум. 275) — сын благородных родителей-христиан Феодота и Руфины, живших в Кесарии Каппадокийской в Пафлагонии. Согласно житию святого, он родился в темнице, куда заточили его родителей, вскоре скончавшихся. Мальчик воспитывался вдовой христианкой Аммией. За исповедание христианства был схвачен и приведен на суд к правителю Демокриту, но тот из уважения к знатному роду, из которого происходил св. Мамант, не стал сам подвергать юношу пыткам, отослав его к императору Аврелиану. Император предал святого жестоким мучениям и хотел утопить, но ангел спас его и повелел ему жить на высокой горе в пустыне. Там св. Мамант выстроил храм; звери из пустыни приходили к нему слушать чтение Евангелия. Затем святой был арестован второй раз и приведен на суд к наместнику Кесарии Александру, после чего брошен на съедение диким зверям, которые не тронули его. Пронзенный трезубцем, он умер в пещере близ города от полученных ран. Строительство огромного храма на месте захоронения св. Маманта началось уже в IV веке. В Константинополе посвященный ему храм воздвиг в V веке император Лев. В квартале, примыкавшем к нему, в средние века жили русские купцы. Мощи мученика находились в Кесарии. Глава святого, по западному преданию, с 490 года пребывает в Лангре во Франции.
Русские иконы св. Маманта чрезвычайно редки и встречаются в основном в Новое время. К их числу относится и образ из данного собрания, где помимо самого святого помещены отдельные сцены его жития. Так, слева вверху ангел указует спасенному от потопления св. Маманту пустынное горное место, где ему надлежит жить. Справа внизу на переднем плане изображены усмиренные молитвой святого львы. В верхнем правом углу представлен восседающий на облаках Христос, который посылает к св. Маманту ангела с мученическим венцом. Памятник представляет собой редкий и чрезвычайно тонкий по исполнению пример рокайльной иконы. Стилистика рококо встречается в русской иконописи с 1730-х годов — в это время она приходит в столичную традицию, — и доживает в провинции до 1770-х. Небольшая икона, написанная в 1742 году, когда тенденции рококо уже достаточно явственно себя проявили, отличается тонкостью миниатюрного письма, сложностью пространственных построений, колоритом, основанным на сочетании нежных переливчатых цветов, особой мягкостью образов и оригинальностью декоративных приемов. В житийном сюжете на заднем плане фигуры ангела и св. Маманта предстают как парковая скульптура, мученический венец, несомый ангелом, превращается в прекрасный цветочный пастуший венок, а нимб святого — в тонкий золотой обруч. Сам Мамант изображен в изящной позе, исполненным идиллической задумчивости. Удивительно тонко и поэтично трактован пейзаж, построенный по всем правилам театральной декорации и законам воздушной перспективы. Очевидно, икона создавалась как образ патронального святого для представителя одной из аристократических семей, где только и мог быть востребован подобный стиль письма. Имя мастера Ф. Масягина неизвестно ни по документам, ни по подписным произведениям. Скорее всего, он работал в Москве, где в ту пору проживало большинство иконописцев разных стилистических направлений, которых из старой столицы периодически приглашали работать в Санкт-Петербург. Вероятно, он был художником-декоратором, и основной сферой его деятельности была живопись светских жанров (театральные декорации, декоративные панно).
Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне мелкие сколы по краям. Утраты золота на опуши. Справа вверху оставлен фрагмент старого покрытия. Незначительные тонировки по утратам.
Богоматерь Знамение
Богоматерь Иерусалимская


Слева: Богоматерь Знамение. 1742. Москва. Справа: Богоматерь Иерусалимская. 1754. Москва
Богоматерь Знамение
1742. Иван Васильев Бессонов, Москва. 105×82 см. Дерево, грунт, масло. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Образ Богоматери Знамения традиционно ставился в центр пророческого ряда русского высокого иконостаса. Эта практика сохранялась и в XVIII столетии, хотя былая строгая структура иконостаса подверглась в это время некоторым изменениям. Вместо образа Богоматери Знамения нередко средником пророческого ряда становилась икона Коронования Богородицы, иконография которой имела западные истоки. Поэтому нет твердой уверенности, что публикуемый образ находился в пророческом ряду. О том, что он создавался для храма, говорят его большие размеры, а также имитация резной деревянной рамы, изображенной на полях. Ее барочные формы соответствуют общепринятому тогда декоративному решению интерьеров храма с помощью пышной золоченой резьбы, покрывавшей иконостас, киоты, клиросы для певчих. Постановка автографа на иконе косвенно указывает на то, что она находилась в местном ряду иконостаса или в отдельном киоте. Об этом же свидетельствуют и следы ожога.
Живопись иконы выполнена в традициях барокко, причем для лучшей передачи диктуемых данным стилем живописных эффектов мастер отказался от традиционной для иконописи темперной техники в пользу масляной, но использовал ее осторожно, не применяя фактурных эффектов или цветовых рефлексов. Даже лики кажутся написанными по старой системе наложения красочных слоев от темного к светлому. Тем не менее, они светлые и розовые в соответствии с эстетикой светского искусства того времени. Мастер активно использует серебро и золото, что также вносит ноту условности в изображение. Серебряными лучами передано мистическое сияние, исходящее от Богоматери. Таким образом, манера письма иконы соединяет в себе новое и традиционное, как это вообще свойственно московскому иконописанию XVIII столетия, не прерывавшему преемственной связи с наследием последних мастеров Оружейной палаты. Автор иконы — Иван Васильев Бессонов — был дьяконом церкви Николая Чудотворца в Старом Ваганькове. При этом он, как и многие лица духовного звания тех лет, активно занимался иконописанием. Сохранилось несколько его подписных произведений, датируемых годами от 1741 до 1763-го. В них художник проявляет себя различно — то как прямой наследник традиций царских изографов, то как приверженец барочной живописной иконы, работая и в темпере, и в смешанной технике. Публикуемая икона созвучна по стилю иконе «Великомученица Варвара, с акафистом», написанной им в 1753 году для московской церкви Рождества Богородицы в Бутырках, где в клеймах присутствуют такие же стилизованные под резьбу барочные картуши, а в живописи использованы та же палитра и приемы письма.
Сохранность. Доска без ковчега, из пяти частей. На обороте две врезные однонаправленные высокие шпонки. Икона, очевидно, горела. На лицевой стороне ожог доски внизу и под изображением Младенца, следы термического воздействия на красочный слой. Трещины по стыкам досок. Потертости и утраты красочного слоя, золота и серебра. Тонировки по утратам.
Богоматерь Иерусалимская
1754. Михаил Фунтусов, Москва. 31,7×26,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Иконография Богоматери, именуемая в русской традиции «Иерусалимской» или «Гефсиманской», относится к типу Одигитрии обратного извода, когда Младенец сидит слева от Богородицы на ее правой руке (греч. Дексиократуса, то есть Правосторонняя). К этому типу, достаточно распространенному в Византии, принадлежала древняя икона Богородицы из Софийского собора в Новгороде (впоследствии названная «Корсунской»), от которой сохранился оклад XII века. Этот образ привлек к себе особое внимание на рубеже XV–XVI веков, когда новгородскими иконописцами были сделаны с него многочисленные реплики как прямого, так и обратного извода (последний получил в XVII веке название «Богоматерь Грузинская»). На рубеже XVII–XVIII веков иконография образа переживает второе рождение в связи с поновлением царскими мастерами древних икон в Успенском соборе Московского Кремля. Среди прочих Кириллом Улановым была поновлена икона Одигитрии такого типа, возможно, привезенная из Новгорода. Тогда же образу приписали легенду о его создании апостолом Лукой в Иерусалиме, откуда он попал в Корсунь, затем после крещения князя Владимира вывезен в Киев, позже отправлен в Новгород и, в конце концов, привезен в Москву Иваном Грозным. В начале XVIII века с поновленной иконы выполнено значительное количество огромных мерных и небольших списков, авторами которых были главным образом Кирилл Уланов и его ближайшие сподвижники. Интерес к этой иконографии вскоре несколько ослабел, тем не менее на протяжении всего XVIII века, особенно в годы правления Елизаветы Петровны, имевшей склонность к «греческому письму», она периодически привлекала к себе внимание. По крайней мере дважды к ней обращался известный московский мастер Егор Иванов Грек, а в 1740 году московский образ копировал ведущий калужский иконописец Семен Фалеев. Не удивительно, что списки этого извода имелись среди домашних икон семьи графов Шереметевых, откуда происходит публикуемый памятник.
Михаил Фунтусов — иконописец семьи графов Шереметевых, очевидно, их крепостной. Его творчество хорошо известно благодаря ряду подписных произведений, о части которых имеется достоверное свидетельство о происхождении из домового храма Фонтанного дома Шереметевых в Санкт-Петербурге. Судя по ним, манера письма мастера отличалась большой гибкостью и менялась в зависимости от поставленной задачи. В ряде работ он демонстрирует барочную стилистику, близкую живописной иконе этого времени: «Собор Богоматери» (1755. ГЭ), «Воскресение, с праздниками» (1761. ГЭ)6 «Богоматерь Всех скорбящих Радость» (1783. ГМИР). В маленькой иконе «Богоматерь Иверская» (1770‑е. ЦмиАР), по-видимому, скопированной с образца греческого происхождения, он очень точно воспроизвел современную ему манеру письма греческих иконописцев и даже досконально повторил греческие надписи. Эта икона характеризует его как последователя традиций мастеров Оружейной палаты рубежа XVII–XVIII веков. Несмотря на неизбежную барочную стилистическую правку, выразившуюся в темно-синем тоне фона иконы, ее цветовых соотношениях, лучевом рисунке нимбов, памятник логично встраивается в линию «живоподобного» направления в рамках русской иконописи XVIII столетия. Особенно остро это чувствуется в ликах, ориентированных на образцы работы Кирилла Уланова. Письмо их отличается тонкостью и очень мягкой пластичностью, тщательной проработкой всех необходимых деталей, а общее выражение — умиленностью и тихой радостью, особенно у Младенца. Отдавая дань истокам стиля, художник активно пользуется греческой палеографией надписей. Представленный памятник, очевидно, был создан в составе небольшой серии икон, которые отличались полным сходством художественного решения. В частных собраниях известны еще две аналогичные иконы — «Богоматерь Тихвинская» и «Святитель Николай», которые не имеют автографа, но абсолютно идентичны по письму подписной иконе Михаила Фунтусова из собрания Виктора Бондаренко.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На боковых обрезах и торцах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от утраченного оклада. Небольшие следы термического воздействия внизу на рукаве Младенца, на Его шее, на мафории Богоматери внизу. Незначительные потертости золота и серебра. Мелкие, местами тонированные утраты краски и механические повреждения.
Распятие
Святитель Николай Чудотворец (Можайский)
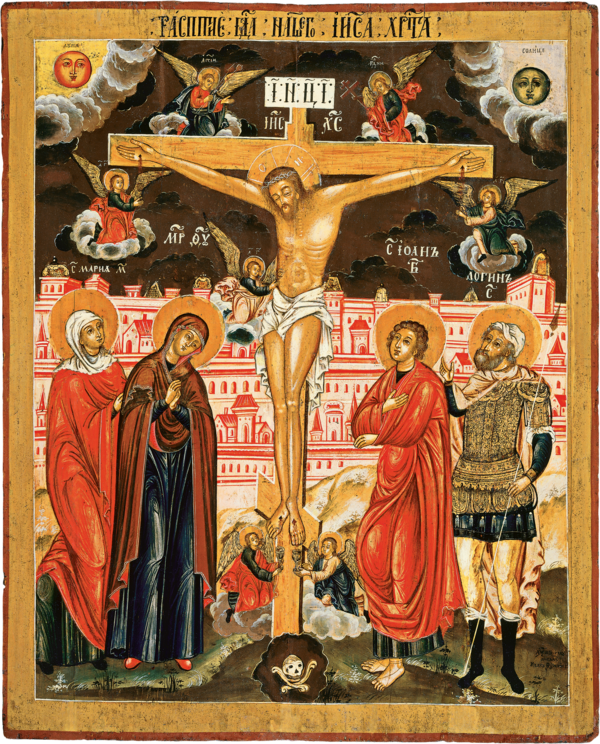

Слева: Распятие. 1756. Углич. Справа: Святитель Николай Чудотворец (Можайский). 1765. Кострома
Распятие
1756. Иван Буренин, Углич. 107×86,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. М. Авдониным.
Большой храмовый образ Распятия, написанный в середине XVIII века в Угличе иконописцем Иваном Бурениным, отражает своеобразное преломление стилистических тенденций барокко в иконописи русской провинции. Новые черты, как в иконографии, так и в стиле, укоренялись в ней последовательно и с оглядкой на традицию. В то же время стиль барокко, очень яркий по своим декоративным качествам, получил здесь благодатную почву для полноценного, хотя и очень своеобразного развития. Придя с запозданием, он продержался в русской глубинке до начала XIX столетия. Иконографический извод, использованный мастером, в целом достаточно обычен и традиционен. В этом памятнике, в отличие от ряда других известных произведений на данный сюжет того же периода, в позах предстоящих Распятию нет динамичности и некоторой театральности, свойственной западным образцам. Художник воспроизводит старый, проверенный временем образец. Но Христос увенчан терновым венцом и сам крест имеет шестиконечную форму, а эти детали вошли в практику мастеров Оружейной палаты только в последней четверти XVII века. Чрезвычайно интересно появление на иконе ангелов, которые собирают в чаши кровь и воду, истекающие из ран Христа. Данный мотив известен в единичных памятниках рубежа XV–XVI веков, где присутствует только один ангел, собирающий кровь из раны на груди Христа. В конце XVII столетия под западным иконографическим влиянием изображение ангелов входит в довольно широкое употребление у московских, а затем и провинциальных мастеров. В то время в композицию могли добавляться еще два ангела, собирающие кровь из ран пригвожденных рук Спасителя.
На публикуемой иконе присутствует редкое изображение сразу пяти ангелов, двое из которых собирают кровь из ран на ногах. Подобный сюжет появляется в начале XVIII столетия у столичных мастеров, обращавшихся к западным графическим образцам. Провинциальный иконописец также пользуется ими, но интерпретирует их более традиционно, без передачи бурного движения фигур ангелов в довольно глубоком пространстве композиции. Напротив, позы ангелов статичны, а пространственная глубина едва намечена. Вверху креста представлена еще одна пара ангелов, держащих орудия страстей. Небо показано темным согласно евангельскому тексту, а в верхних углах помещены помрачившееся солнце и окрасившаяся в кровавый цвет луна. Эти особенности, как и подробное, хотя и условное изображение Иерусалима в виде города, также восходят к традициям царских мастеров XVII века. Таким образом, провинциальный художник демонстрирует преемственную связь с творчеством столичных изографов предшествовавшего столетия. Живопись иконы отражает столь же консервативный подход ее автора к восприятию новаций. Барокко ощущается здесь в полной мере только в колорите, построенном на сочетании звучных контрастных цветов, прежде всего синего и красного. Но именно это и придает памятнику новаторское стилистическое звучание. Иван Буренин — иконописец города Углича, известный по подписной иконе 1762 года «Глава Иоанна Предтечи», написанной им для церкви Рождества Иоанна Предтечи «на Волге» (УГИАХМ). Отец иконописца Григория Буренина, работавшего в Угличе в начале XIX века.
Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей. С оборота скреплена двумя врезными встречными высокими шпонками. На обороте стыки досок и трещины древесины заполнены воскомастикой. На торцах стыки и трещины скреплены металлическими скобами. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне грунтовые трещины по стыкам досок. Небольшие тонированные вставки по центральному стыку и трещинам. Мелкие тонировки по утратам красочного слоя и золота.
Святитель Николай Чудотворец (Можайский)
1765 год. Иван Федоров Липин, Кострома. 122,1×71 см. Дерево, левкас, смешанная техника. Привезена из Костромской области. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
На иконе, представляющей типичный образец стиля провинциального барокко, святитель Николай Чудотворец изображен в древней иконографии Николы Можайского, которая восходит к чудотворной скульптуре, когда‑то находившейся на воротах города Можайска. Она изображала святителя во весь рост; он держал в левой руке модель города, а в правой — меч, которым защищал его от врагов. Предание о произошедшем от скульптуры чуде, спасшем Можайск во время нашествия врагов, положило начало широкому почитанию образа и распространению его иконографии как в скульптуре, так и в иконописи. Его повторения известны в русском искусстве с XIV века, но наибольшую популярность они обрели в XVI–XVII веках, что продолжилось и в Новое время. В соответствии с барочной стилистикой XVIII столетия, святитель изображен в пейзаже, на небесном синем фоне, переходящем к линии горизонта в розовый. По сторонам от него в клубящихся облаках и сиянии предстают Христос с Евангелием и Богоматерь с епископским омофором в руках, напоминая о чуде в Никее. Надпись над головой Чудотворца необычно изгибается по контуру его нимба. Внизу в картуше сложной формы приведен текст тропаря святому. Введение в икону пространных текстов молитв, выполненных по белому фону с имитацией книжной печати и заключенных в пышную рамку, становится весьма распространенным явлением в иконописи XVIII века. Колорит иконы построен на любимых цветосочетаниях иконы барокко — звучном сопоставлении синего и красного, дополненного их оттенками, а также охрой, серебром и золотом.
Несмотря на то, что икона была в значительной степени прописана поновителем XIX века, авторский замысел в ней хорошо читается. В отличие от барочной иконы Петербурга, полностью ориентированной на европейскую живописную манеру письма, русская провинция в своих произведениях демонстрирует гораздо более консервативный вариант стиля. Одно из наиболее убедительных его проявлений дала Кострома, куда барокко приходит лишь в середине XVIII столетия. Местные художники использовали компромиссное стилистическое сочетание иконописной традиции Оружейной палаты и адаптированных к ней отдельных формальных черт барокко. Именно к таким представителям костромской барочной иконы относился и автор публикуемого образа Иван Федоров Липин. Мастер, как это типично для иконописцев Поволжья, был продолжателем династии художников. Его отец в молодые годы работал с Гурием Никитиным, самым знаменитым изографом Костромы, на росписях Троицкого собора Ипатьевского монастыря в 1684 году. Иван Федоров известен как автор нескольких подписных произведений — годового комплекта Миней, выполненного в 1758 году для церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе (КГИАХМЗ и Епархиальный музей) и иконы «Девять мучеников Кизических» (ЦАК МДА). В них мастер проявил себя как художник, сочетающий приемы миниатюрного письма с барочно-экспрессивной трактовкой формы. Представляемая икона, датированная 1765 годом, является в настоящее время самым поздним известным произведением художника; кроме того, она характеризует его как мастера, работавшего над созданием иконостасов. В подписи на иконе святителя Николая, которая, очевидно, была храмовым образом, он указал, что весь церковный иконостас также выполнен им. Несмотря на то, что, по всей очевидности, в 1760‑е годы мастер был далеко не молод, он находился в хорошей рабочей форме. Еще более интересен автограф художника, где он называет себя не только иконописцем, но и живописцем града Костромы. Это значит, что наряду с традиционной для иконописи темперной техникой он владел техникой письма маслом, которая помогала ему в реализации стилистических барочных поисков.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. Расхождения по стыку скреплены металлическими скрепами, вертикальная трещина в верхней части правой доски забита щепой. Основа, по-видимому, опилена по краям в XIX веке. На обрезах и торцах многочисленные остатки гвоздей и гвоздевые отверстия от крепления оклада и самой иконы в гнезде иконостаса или киота. На лицевой стороне тонированные вставки на местах крепления венца. Икона в XIX веке была поновлена; к этому времени авторская живопись (очевидно, темперная), скорее всего, была местами утрачена и потерта, и при поновлении по утратам икона была прописана маслом. На поновительском слое сседание краски. Авторская живопись сохранилась на лике в центре, фрагментах одежд, изображении града, тексте в картуше; местами проглядывает из-под тонкого слоя масляной записи. Рамка картуша и элементы пейзажа выполнены при поновлении. Прописи по утратам и на одеждах — при современных реставрациях.
Богоматерь Троеручица
Притча о блудном сыне


Слева: Богоматерь Троеручица. 1785–1788. Нерехта. Справа: Притча о блудном сыне. Последняя четверть XVIII века. Центральная Россия
Богоматерь Троеручица
1785–1788. Михаил Пастух, Нерехта. 66×50,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.
Иконография Богоматери Троеручицы — один из вариантов обратного (зеркального) изображения Одигитрии, где Младенец представлен слева, восседающим на правой руке Матери. К нему относится чудотворный образ Богоматери Троеручицы, находящийся в сербском монастыре Хиландар на Афоне, который был вложен в обитель представителями правящей сербской династии Неманичей в XIV веке. На самой иконе дополнительного изображения руки нет, но оно присутствует на ее серебряном окладе. Очевидно, металлическая рука являлась вотивом, приложенным к образу в благодарность за исцеление. Эта деталь довольно быстро вошла в иконографию чудотворной иконы и стала повторяться на ее списках живописными средствами. Если на окладе чудотворного образа она находится внизу слева, то на иконах-списках, как правило, внизу в центре. В XVI–XVII веках необычное изображение третьей руки получило объяснение в двух вариантах сказания о чудотворном образе Троеручицы. Согласно одному из них, возникшему в самом Хиландарском монастыре и известному в России уже с XVI столетия, изображение третьей руки было связано с его чудесным троекратным возникновением во время написания образа неким иконописцем, который дважды пытался его уничтожить, пока ему не явилась сама Богородица, запретившая это делать.Второй, более поздний, вариант опирается на рассказ о чудесном исцелении преподобного Иоанна Дамаскина, которому по ложному навету была отсечена рука, но по молитве святого перед иконой Богородицы приросла вновь. В благодарность за исцеление Иоанн приложил к образу отлитую из серебра кисть руки. На основании этого варианта сказания хиландарская икона Троеручицы обрела легенду о своем очень древнем происхождении (VIII век) и была идентифицирована с тем образом, которому молился Иоанн Дамаскин.
В России списки с иконы Богоматери Троеручицы появились позднее литературного текста Сказания об образе. Первые сведения о них относятся к 1658 году, когда монахи из Хиландара доставили в Москву два образа Троеручицы для патриарха Никона и царицы Марии Ильиничны. В 1661 году на Афоне по просьбе Никона был выполнен еще один список с чудотворной иконы, помещенный им в Воскресенский храм в Новоиерусалимском монастыре. Со временем прославились и некоторые собственно русские списки Троеручицы. Тем не менее, почитание этой иконы в России не стало столь широким, как другой чудотворной афонской иконы Богородицы — Иверской, привезенной в Москву также при патриархе Никоне в 1648 году. Во второй половине XVII века русские иконы Троеручицы встречаются редко и связаны, главным образом, с Москвой. В XVIII столетии их по-прежнему немного, и лишь в XIX веке они получают более широкое распространение. Третья рука на русских иконах изображалась двояко в соответствии с двумя вариантами легенды об образе. В одном из них, поощрявшемся церковными властями, третья рука писалась серебряной, то есть как приложенная к образу. Второй вариант, осуждаемый Синодом, предполагает написание как бы реальной третьей руки у Богородицы. Он присутствует на представленном памятнике. В стиле его живописи, с одной стороны, прослеживается прочная связь с традициями «живоподобного» письма рубежа XVII–XVIII веков, что очевидно в типажах ликов, приемах их письма, в характере разделок одежд и их иконографических особенностях (например, платье в мелкую звездочку у Богоматери, нередко встречающееся в работах мастеров Оружейной палаты второй половины XVII — начала XVIII века). С другой стороны, в колорите заметно воздействие барокко, цветовая палитра художника строится на сопоставлении различных оттенков красного и синего, дополненных золотом и серебром. Такой компромиссный стиль особенно типичен для костромского Поволжья, где он имел местную специфическую трактовку не только в самой Костроме, но и в таких уездных городах как Кинешма и Нерехта.
Мастер Михаил Пастух (Пастухов) известен еще по одной подписной иконе — Богоматери Феодоровской 1793 года (Музей икон Пресвятой Богородицы), где он назвал себя подольским мещанином. Памятник из собрания Виктора Бондаренко помогает прояснить важные моменты биографии художника и истоки формирования его художественной манеры. Интересно, что подписи на обеих иконах выполнены единообразно — год приводится римскими цифрами, надпись разделена на две части, разнесенные по сторонам на нижнем поле, автор указывает свое социальное положение (мещанин) и место жительства. Из суммарной информации обоих автографов следует, что Михаил Пастух был жителем и, скорее всего, уроженцем города Нерехты Костромской губернии. В период между 1785 и 1793 годами художник переселился в подмосковный город Подольск. Однако написанная им уже в Подольске икона Богоматери Феодоровской своим сюжетом, размерами, близкими чудотворной иконе, а также стилистикой, ориентированной на передачу истинного облика прославленного образа с его подчеркнуто темным ликом, свидетельствуют, что связь иконописца с костромской художественной традицией не была прервана.
Сохранность. Основа составлена из четырех частей — трех равных по размеру досок и узкой надставки справа. Скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками плоской формы со стесанными углами. На торцах и боковых обрезах многочисленные гвозди и гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне обширная тонированная вставка на нижнем поле, менее значительные — по боковым и верхнему полям. Тонированные вставки по контуру нимбов и фигур Богоматери и Младенца на местах крепления утраченных венцов. На вставках местами выполнен рисованный кракелюр. Вставка с реконструкцией живописи на одеждах Богоматери под изображением третьей руки. Ассистное серебро на хитоне Младенца восстановлено по остаткам авторского. Реставрационные прописи твореным золотом и серебром по утратам на одеждах и фоне.
Притча о блудном сыне.
Последняя четверть XVIII века. Центральная Россия. 51,5×30,5 см. Дерево, резьба, левкас, темпера, золочение. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Во второй половине XVIII века сюжетная программа русского высокого иконостаса в значительной мере расширилась за счет введения в нее целого ряда сцен, иллюстрирующих ветхозаветные эпизоды и евангельские притчи. Эти композиции помещали в цокольном (иначе подместном, тумбовом) ряду иконостаса, где они вписывались в архитектурные фрагменты иконостаса, в частности могли размещаться на выступающих раскреповках, служивших основанием для резных колонок местного ряда. Особенно популярны подместные ряды были в усадебных храмах последней трети XVIII столетия, где эти памятники удивляют широчайшим репертуаром и разнообразием использовавшихся в них сюжетов. Евангельская притча о блудном сыне до Нового времени в России изображалась только в монументальной живописи. Подробный цикл, посвященный этому сюжету, был включен в состав росписей московского храма Троицы в Никитниках, выполненных в начале 1650-х годов. Несмотря на то, что притча особо вспоминается, согласно церковному календарю, в воскресенье за три седмицы до начала Великого поста (Неделя о блудном сыне), в древности она не получила отражения в иконе. Подместные ряды иконостасов дали возможность включить притчу в число представляемых на иконах сцен. В XIX веке русская икона с этим сюжетом, хотя и редко, но встречается как самостоятельная, а не в составе иконостасов.
Публикуемая икона имеет необычный вытянутый формат и профилированную золоченую раму. По-видимому, она закреплялась на раскреповке (тумбе) цокольного ряда иконостаса, а ее рама корреспондировала с его золочеными резными деталями. Очевидно, сюжетная программа подместного ряда данного иконостаса была основана на притчах и некоторых евангельских эпизодах. Об этом свидетельствует икона «Брак в Кане Галилейской» (частное собрание), происходящая из того же иконостаса и совпадающая по размерам и стилю с представленным памятником. Художник помещает в единое пространство две сцены. На заднем плане нагого, спустившего все данные ему отцом деньги блудного сына накрывает красной одеждой некий человек. На переднем плане показано возвращение скитальца в отчий дом. Справа, около входа, — две фигуры, мужская и женская, оживленно жестикулирующие и наблюдающие за сценой встречи отца и сына. Авторское название произведения — «Развращенный блудный сын» — очень оригинально и не соответствует каноническому именованию сюжета. Иконы в подместном ряду вообще не воспринимались как полноценные, поскольку они находились очень низко по отношению к зрителю, что недопустимо для истинного моленного образа. Они расценивались скорее как некий дополнительный изобразительный ряд, зачастую наделенный нравоучительным содержанием. Стиль живописи иконы типичен для популярного в провинциальной иконописи направления, связанного с усадебными храмами. В ней сочетаются черты барокко и рококо, адаптированные к традиционным иконописным приемам. Некоторая вытянутость пропорций фигур отражает тенденции постепенно проникающего в провинцию классицизма.
Сохранность. Доска цельная, с профилированными краями, образующими раму. Верхняя и нижняя части иконы опилены. На обороте помета черной краской с указанием места размещения иконы в иконостасе: «Пра II» (правая 2). На лицевой стороне скол левкаса на раме в верхнем левом углу, мелкие сколы по краям. Золото на раме сильно потерто и местами утрачено. Слева вверху оставлены фрагменты старого покрытия и записи. Небольшая тонированная вставка по левому краю в центре на поземе. Реконструкция живописи по утратам на ликах с рисованным кракелюром. Тонировки по утратам на одеждах. Потертости авторской живописи на поземе.
Вознесение
Иоанн Предтеча в пустыне (в окладе)

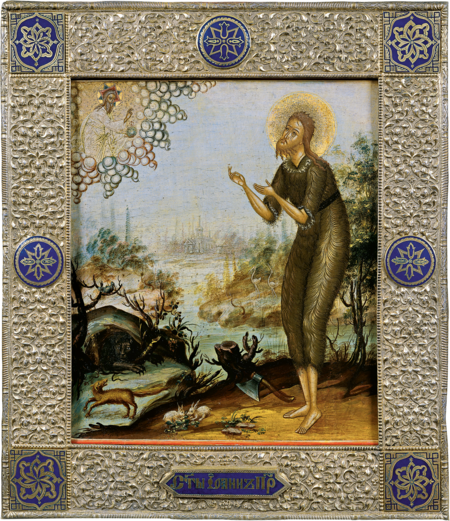
Слева: Вознесение. Конец XVIII века. Кострома (?) Справа: Иоанн Предтеча в пустыне (в окладе). Конец XVIII века. Палех
Вознесение
Конец XVIII века. Кострома (?). 70,5×61,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Иконография Вознесения Господня — одна из наиболее устойчивых среди евангельских сюжетов. Она не подверглась серьезной модификации под влиянием западных образцов во второй половине XVII века, когда многие сюжеты получили совершенно новую композиционную трактовку, позаимствованную из гравированных североевропейских лицевых библий. Тем не менее, небольшие корректировки в ней все же произошли. Так, если раньше на иконах Вознесения среди апостолов изображался Павел, который при этом событии не был, что символически выражало единство и полноту Церкви, то в позднее время сюжет интерпретируется в событийном аспекте и показываются только те апостолы, которые при этом присутствовали. Публикуемая икона отражает именно такое прочтение сюжета, хотя композиция здесь полностью соответствует традиционной. Она содержит довольно любопытные изобразительные детали. Например, из труб ангелов, возносящих Христа на небо, исходят серебряные тонкие лучи. С помощью этого наивного приема мастер зримо обозначает звук, издаваемый трубами.
Памятник входил в состав праздничного ряда храмового иконостаса, о чем говорят его размеры и следы бытования в храме (закрашенный оборот). Композиция иконы довольно разреженная, в ней много свободного пространства, занятого пейзажем, который исполнен очень тонко и интересно. Так, горки были сначала написаны охрой, а затем прописаны голубой полупрозрачной краской, что создало выразительный живописный эффект переливающегося цвета. Кусты и травы написаны мелкими мазками с «кружевным» эффектом. Колорит иконы очень светлый, тяготеющий к зелено-голубой рокайльной гамме. Большой звучностью обладает использованный в одеждах глубокий синий цвет, гармонично сочетающийся с сине-зеленым, охристым и кораллово-красным. Изысканная цветовая гамма всегда присутствует в поволжских провинциальных памятниках конца XVIII века, создававшихся главным образом для усадебных храмов. Скорее всего, икона была выполнена костромскими мастерами, очень любившими холодноватую красочную палитру. На поволжское происхождение указывают и «живоподобно» написанные лики, не затронутые влиянием живописных приемов барокко, а следующие образцам рубежа XVII–XVIII столетий. Такой здоровый консерватизм в восприятии стилистических веяний, исходящих из светского искусства, чрезвычайно показателен для поволжской иконописной традиции конца XVIII века.
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, надставлена с боков узкими планками. С оборота скреплена двумя врезными встречными неширокими шпонками, немного возвышающимися над поверхностью доски. Центральная часть доски имеет также две врезные торцевые шпонки. Вертикальная трещина основы в центре. Расхождение по стыку слева. Оборот закрашен светло-голубой масляной краской. На лицевой стороне сколы левкаса по краям. Грунтовые трещины по трещине доски и стыкам. Скол левкаса на фоне в верхнем левом углу. На нижнем поле обширная тонированная вставка, частично заходящая на изображение позема. Вставка с реконструкцией на гиматии апостола справа от Богоматери. Золото нимбов сильно утрачено, утраты возобновлены при реставрации. Утраты золота в разделках одежд. Мелкие утраты красочного слоя по всей поверхности. На крыльях ангелов положено новое золото, рисунок восстановлен. Золотая надпись и сияние вокруг Христа прописаны.
Иоанн Предтеча в пустыне (в окладе)
Икона — конец XVIII века. Палех. Оклад — конец XIX века. Москва. 35,9×30,7 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение, эмаль по оброну. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
В последней трети XVIII столетия, когда на основе реминисценций строгановских художественных традиций закладывались основы классического стиля палехского письма, в иконописи Палеха бытовали и иные направления, связанные с живописными поисками в барочном и рокайльном духе. Позднее эта стилистическая линия, корреспондирующая с тенденцией столичной иконописи, полностью прервется, но на исходе XVIII века палехская икона дала прекрасные примеры «романтического» живописного направления, известного по ряду произведений различных авторов. Показательными для этого стиля были сюжеты «Иоанн Богослов на Патмосе» и «Иоанн Предтеча в пустыне», которые в полной мере позволяли использовать живописные приемы при изображении пейзажа. Роскошные пейзажи в европейском духе, написанные открытым мазком, присутствуют на иконах «Иоанн Предтеча» 1806 года Иллариона Корина (ГМПИ), «Иоанн Предтеча в пустыне» (ГМПИ), «Иоанн Богослов с Прохором на Патмосе» (ГМПИ). Публикуемая икона также принадлежит к числу этих редких «живописных» палехских произведений. Созданная, по-видимому, уже в самом конце столетия, она содержит в себе черты старого и нового. Пейзаж, окружающий Иоанна Предтечу, выполнен в полном соответствии с законами построения воздушной перспективы. Тончайшая, нежная по цветовым переливам живопись напоминает декоративные росписи в стиле рококо. Пейзаж населен разнообразными живыми существами, при изображении которых мастер проявляет большую фантазию. На заднем плане, замыкая пространственный прорыв, иконописец изобразил храм, причудливым образом сочетающий формы древнерусской и классицистической архитектуры.
Контрастно по отношению к открытой живописной манере, в которой выполнен пейзаж, смотрится лик Иоанна Предтечи — при его передаче мастер уже отошел от живописных принципов в сторону условности, подражая строгановским образцам. Лик написан так, как впредь будут писать практически все иконописцы Палеха — оранжеватой охрой и белилами по принятой «строгановской» схеме. Диссонансом по отношению к пейзажу выглядят и схематизированные клубящиеся облака — среди них изображен благословляющий Предтечу Господь Саваоф. На верхнем поле иконы под окладом находится двойная авторская надпись с названием ее сюжета: «Господь Саваоф благословляет пророка Своего Иоанна» и «Святый Иоанн Предотеча моляся во пустыне». Обращает на себя внимание форма написания имени пророка — Иоанн Предотеча, характерная для старообрядческой традиции, способной, как показывает это произведение, к восприятию икон, созданных под воздействием европейских художественных влияний. О том, что икона жила в старообрядческой среде, говорит также ее оклад, орнаментика которого стилизует русские иконные оклады XVII века. Оклады такой формы делались, прежде всего, в расчете на вкусы старообрядцев.
Сохранность. Икона. Доска без ковчега, из двух частей, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Замастикованные расхождения по стыку над верхней и под нижней шпонкой, на торцах скреплены деревянными вставками. На лицевой стороне узкие вставки с реконструкцией живописи по расхождениям досок вверху и внизу. На нимбе процарапанный кракелюр по вставке. Мелкие утраты краски, потертости и механические повреждения. Остатки старого покрытия. Оклад. Незначительная деформация металла. Патина.
Богоматерь Югская
Апостол Андрей Первозванный


Слева: Богоматерь Югская. 1786 год. Пошехонье. Справа: Апостол Андрей Первозванный. Последняя четверть XVIII века. Москва или Романов-Борисоглебск
Богоматерь Югская
1786 год. Пошехонье. 31,2×25 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона, как это указано в надписи на ней, является мерным списком с чудотворной иконы Богоматери Югской (см. о ее обретении кат. 19), которая имела совсем небольшие размеры — 30,3×23,6 см. Сохранилось довольно много таких списков, очень близких между собой по иконографии и отчасти по стилю. Все они достаточно точно передают облик первообраза, позволяя определить, что он был создан во второй половине XVI века. Об этом говорят приглушенный колорит, темный фон и лики характерного для того времени типажа. Большинство этих списков сделаны в последней четверти XVIII века, на некоторых указана точная дата написания. По-видимому, интерес к созданию списков с чудотворного образа был связан с событиями чумной эпидемии 1771 года, когда икону приносили в Рыбную слободу, а потом выполнили с нее местный список для городского собора, что стало импульсом для изготовления других известных в настоящее время списков, находящихся, в основном, в собрании РГИАХМЗ.
На ряде списков имеется надпись, аналогичная той, что присутствует на представляемой иконе, — например, на образе, принадлежавшем семье Мусиных-Пушкиных и также датированном 1786 годом. Имеется еще один наиболее близкий публикуемой иконе список с загадочной датой написания — с изображением на полях священномученика Антипы Пергамского и святителя Тихона Амафунтского (частное собрание). В надписи на нем есть имя автора — иконописца А. Д. Першина, и дата — 1778 год. Эта дата была оспорена Т. Л. Бусевой-Давыдовой, которая сочла ее ошибочной и датировала памятник ста годами позже. Икона, действительно, заметно жестче по живописи ликов, даже по сравнению с рассматриваемым памятником, наиболее ей близким. В то же время изображения святых на ее полях имеют точки соприкосновения с поволжской иконописной традицией конца XVIII столетия. Живопись ликов на представляемой иконе не только копирует древний оригинал, но и вполне вписывается в художественный контекст русской иконописи последней четверти XVIII века, когда возвращается ориентация на образцы первой половины XVII века. Оранжеватый теплый тон вохрений, мягкие белильные высветления с графичными оживками отражают ориентацию на традиции строгановского письма, ставшие широко популярными в это время благодаря деятельности иконописцев-старообрядцев.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с одной врезной плоской шпонкой на обороте. Внизу на обороте след ожога. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне мелкие выкрошки по нижнему краю, сколы по краям и углам. Незначительные тонировки по утратам красочного слоя по всей поверхности. Потертость золота. Небольшие тонировки твореным золотом по утратам ассиста на одеждах Младенца, кайме, бахроме и звездах мафория Богоматери.
Апостол Андрей Первозванный
Последняя четверть XVIII века. Москва или Романов-Борисоглебск. 44×28,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. М. Авдониным.
Апостол представлен на иконе в рост, в легком развороте влево. Такое изображение типично для икон, входивших в состав деисусных рядов иконостаса. Однако сравнительно большая ширина доски относительно ее высоты, не совсем характерная для подобных образов, дает основание предположить, что памятник изначально создавался как самостоятельное произведение. Интересна и надпись на иконе. Вместо ставшего уже традиционным русского слова «святой» использовано греческое «агиос», как на древнейших образцах русской иконописи. Живопись иконы четко отражает те изменения, которые происходили в русской иконописи в последней трети XVIII века, с одной стороны, под влиянием старообрядчества, легализованного Указом о терпимости всех вероисповеданий в годы правления императрицы Екатерины II, с другой — под воздействием эстетических принципов классицизма. Светлый колорит, чистота красочной палитры, где каждый цвет имеет самоценное звучание, усиление графического начала успешно сочетаются с традиционной условной трактовкой пространства и позема и «доживоподобной» манерой письма ликов.
Икона выполнена высокопрофессиональным художником, возможно, выходцем из старообрядческой среды. Живые традиции XVII столетия видны в выборе пигментов для одежд апостола. Хитон написан малиновым баканом, гиматий — изумрудной ярь-медянкой. Это цветовое сочетание, характерное для работ царских мастеров второй половины XVII века и получившее распространение в произведениях всех крупных художественных центров, дополнено густыми золотыми разделками одежд. Рисунок разделок очень виртуозен и декоративен. Подобные приемы встречаются в работах того времени, созданных иконописцами Романова-Борисоглебска. Тонко и пластично, несмотря на условность приемов письма, выполнен лик, в изображении которого сочетаются отголоски ярославской художественной традиции рубежа XVII–XVIII веков и следование более ранним образцам первой половины XVII столетия. В то же время общая строгость и структурность образа, отсутствие чрезмерной орнаментации, наряду с высокой декоративностью письма и богатством палитры, были характерны для московских старообрядческих иконописных мастерских, где, благодаря активной миграции мастеров между отдельными центрами старой веры, встречалось переплетение разных по своему происхождению художественных приемов и формальных решений.
Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, скреплена с оборота двумя врезными встречными широкими шпонками с филенками. На лицевой стороне мелкие сколы по краям. Потертости и утраты золота на нимбе, восполненные при реставрации.
Иоанн Предтеча Ангел пустыни (в окладе)
Богоматерь Тихвинская, с избранными святыми на полях (в окладе)
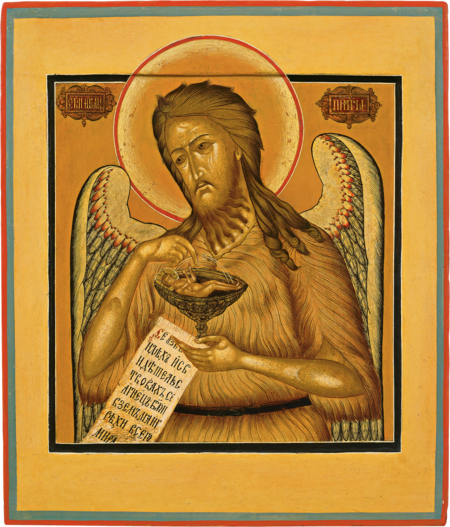

Слева: Иоанн Предтеча Ангел пустыни (в окладе). Последняя треть XVIII в. Справа: Богоматерь Тихвинская, с избранными святыми на полях (в окладе). Конец XVIII — начало XIX в. Романов-Борисоглебск
Иоанн Предтеча Ангел пустыни (в окладе)
Икона — последняя треть XVIII века. Романов-Борисоглебск. Оклад — конец XVII — начало XVIII века. Москва (?). 37,8×31,8 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Икона происходит из небольшого поясного трехчастного Деисуса. Иоанн Предтеча изображен в том иконографическом типе, который был особенно популярен в старообрядческих памятниках Нового времени. Его особенностью является чаша в руке Иоанна, в которой лежит жертвенный Агнец — обнаженный Младенец Христос. Изображения жертвенного Агнца в потире, увенчанном звездицей, зримо иллюстрирующие символический смысл таинства Евхаристии, известны с древности и присутствовали, как правило, в росписях алтарей храмов. В XVII столетии эта чаша появляется в руках Иоанна Предтечи в деисусных композициях. Правой рукой Предтеча указует на Агнца, а текст свитка в другой руке, соответствующий пророчеству Иоанна, полностью раскрывает смысл изображенного: «Се аз видех и свидетельствовах, се агнец Божий, вземляй грехи всего мира» (Ин. 1:29).
Подобные деисусные иконы имели ряд дополнительных вариативных деталей, также несущих некоторую смысловую нагрузку. Во-первых, это крылья у Иоанна, соответствующие его иконографии Ангела пустыни. Во-вторых, корона на его голове. На представленной иконе изображены только крылья. По-разному писались и одежды. Предтеча мог быть изображен в милоти с накинутым на нее гиматием или без него, как на публикуемом произведении. Икона написана старообрядческим мастером Романова-Борисоглебска, о чем говорит стиль ее живописи, типичный для ряда памятников последней трети XVIII века, связанных с этим центром. Особенно показательно в этом плане письмо лика мягкими высветлениями по оранжеватой охре. В то же время в ней нет открытой декоративности художественного языка, обычно присутствующей в романовских произведениях. Сдержанный колорит, умеренное использование золота и цветных лаков придают художественному образу иконы определенную строгость.
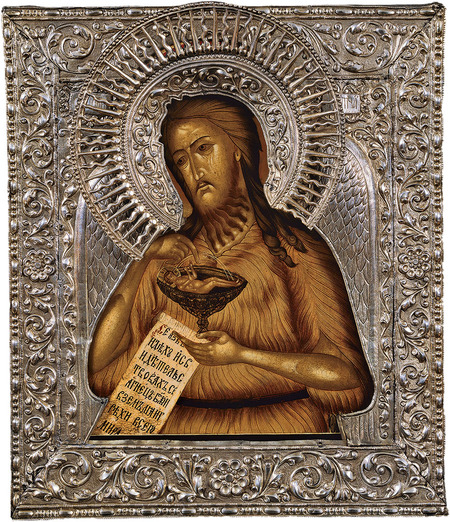
Типичны для романовских произведений обработка доски и решение ее полей и опуши, а также характер картушей с надписями. Оклад иконы относится к более раннему времени и выполнен на другую икону аналогичной иконографии. Она была утрачена, и оклад перенесли на новый образ, который не совсем совпал по своему силуэту с прорезью в окладе. Тогда же сняли один луч на венце, чтобы он не перекрывал изображение. По типу орнаментики самого оклада и венца с чередующимися прямыми и волнообразными лучами памятник можно отнести к петровскому времени и предположить, что он был создан московскими ювелирами-серебряниками.
Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне прописи и вставки на полях. Опушь, разгранка лузги, фон и золото на нимбе прописаны. Вставка с реконструкцией на месте свечного ожога внизу в центре. Золото на крыльях переложено, рисунок их восстановлен. Усилен рисунок чаши. Прописи на волосах. Оклад. Деформации и просечки металла. На венце утрачен крайний левый луч. Оклад перемонтировался в связи с подгонкой к иконе.
Богоматерь Тихвинская, с избранными святыми на полях (в окладе)
Икона — конец XVIII — начало XIX века. Романов-Борисоглебск. Оклад — первая треть XIX века. 24,7×21,5 см. Дерево, левкас, темпера, серебрение; серебро, чеканка, гравировка, золочение. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.
Небольшая Тихвинская икона Богоматери была выполнена по частному заказу, на что указывают представленные на ее полях дополнительные святые — ангел-хранитель, святитель Николай Чудотворец, Иоанн Предтеча и преподобный Авксентий. Несмотря на идентифицирующую авторскую надпись, она имеет особенность, характерную для почитавшегося в ярославских землях чудотворного образа того же извода — Богоматери Югской. Младенец на руке Богоматери сидит очень ровно, как бы выпрямив спину, в остальном же икона соответствует классическому изводу Богоматери Тихвинской. По-видимому, эта деталь связана с тем, что произведение создано в ярославских землях, и местный чудотворный образ косвенно повлиял на его иконографию.
Такому предположению не противоречит и стиль живописи иконы. Ему свойственны те черты, которые присутствуют в памятниках, связанных с иконописанием в Романове-Борисоглебске, так называемых романовских письмах. Яркой особенностью публикуемой иконы является орнаментальная рамка на ее полях, выполненная черной краской по серебру и имитирующая серебряный чеканный оклад. Подобный прием наведения орнамента на полях встречается в конце XVIII — начале XIX века в нескольких старообрядческих иконописных центрах — нижегородском Павлове на Оке, Калуге, ярославском Романове-Борисоглебске. Как правило, он подцвечивался цветными лаками и накладывался на золото. Сложный рисунок пышных складок одежд фигур на полях, щедрая разделка их золотом прямо связывают памятник с традициями ярославского иконописания рубежа XVII–XVIII веков. Довольно сдержанный колорит с фрагментами светлых теплых тонов встречается в ряде романовских произведений последней трети XVIII века, так же как манера письма ликов мягкими прозрачными высветлениями по светлой охре оранжевого оттенка. Оклад на икону был выполнен спустя некоторое время; в его декоре присутствуют типичные для позднего ампира мотивы. Чтобы не закрыть авторскую орнаментику полей, икону надставили под оклад, в результате чего родилось необычное декоративное решение памятника.
Сохранность. Икона. Доска кипарисная, без ковчега и шпонок. Надставлена с четырех сторон под оклад. На обороте в центре след ожога. На лицевой стороне небольшие тонированные вставки по стыкам доски и надставок. Мелкие, местами тонированные утраты красочного слоя, серебра и золота. Механические повреждения на нимбе Богоматери. Надписи и обводки нимбов усилены. Оклад. Незначительная деформация металла. Потертость золочения.
Распятие
Троица ветхозаветная (Гостеприимство Авраама)


Слева: Распятие. Конец XVIII — начало XIX века. Романов-Борисоглебск. Справа: Троица ветхозаветная (Гостеприимство Авраама). Конец XVIII века. Поволжье
Распятие
Конец XVIII — начало XIX века. Романов-Борисоглебск. 31,7×26,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Небольшая икона Распятия, радужная по колориту, насыщенная по композиции и затейливая по рисунку, представляет собой классический образец так называемых «романовских писем» — икон, созданных иконописцами-старообрядцами, проживавшими в поволжском городе Романове-Борисоглебске. Самая характерная черта стиля, принятого у этих художников, — живая связь с декоративными традициями ярославской иконописи эпохи ее расцвета в конце XVII века. Художник использует вариант композиции с четырьмя предстоящими: помимо Богородицы и Иоанна Богослова рядом с Крестом стоят Мария Магдалина и Лонгин Сотник. Очень показательны изображения Господа Саваофа и Святого Духа в виде голубя в звездчатом сиянии, помещенных на облаках прямо над Распятием. Эта деталь чрезвычайно характерна для иконографий Распятия у старообрядцев-поповцев.
Все поле изображения плотно заполнено — в углах среди мелких клубящихся облачков на синем небе с золотыми звездами представлены солнце и луна, по сторонам Креста в прорывах облаков — два ангела, чьи фигуры прорисованы только черной краской прямо по золоту фона, а ниже его перекладины возвышаются разноцветные башенки построек Иерусалима. Городская стена изображена очень неожиданно: она несколько раз изгибается под углом, уходя с ближнего плана справа к более дальнему плану слева. Это создает впечатление интересного по своей конфигурации пространства, в котором разворачивается действие. Очень подробно, с передачей текстуры дерева и сучков написан Крест, опирающийся на совершенно условную по форме Голгофу с головой Адама в основании. Голгофа передана как некая декоративная горка с мелким кружевным узором лещадок. Боковые поля иконы занимают многочисленные дополнительные святые — архангел Михаил, Иоанн Предтеча, апостол Петр, архангел Гавриил, мученица Дарья, апостол Павел. Частично они группируются тематически — два архангела, два первоверховных апостола. Пара Иоанн Предтеча и мученица Дарья — скорее всего святые покровители супружеской пары, заказавшей икону. Архангелы, изображенные вверху как Силы Небесные, стоят на клубящихся облачках, таких же как в сцене Распятия. Фоны, на которых представлены святые, переливаются разноцветными нежными цветами. Складки одежд персонажей имеют сложную линию рисунка, как на ярославских иконах XVII века. Разделки одежд переданы золотом, а доспех Лонгина прорисован по золоту черным рисунком с рокайльным орнаментом. Лики написаны активными высветлениями по сероватой темной охре. Все примененные автором художественные приемы полностью соответствуют известным произведениям романовских мастеров. Сходство с некоторыми из них столь значительно, что позволяет предполагать одну руку. Ближайшие аналогии публикуемому памятнику — две иконы «Благовещение» (ГРМ и РГИАХМЗ), которые, по всей видимости, были исполнены тем же автором.
Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. Свежие гвоздевые отверстия на боковых обрезах. На лицевой стороне тонированная вставка на нижнем поле в центре. Потертости и утраты золота на фоне и нимбах, в разделках одежд. Недоснятое покрытие.
Троица ветхозаветная (Гостеприимство Авраама)
Конец XVIII века. Поволжье. 38,5×32,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Святая Троица представлена на иконе в иконографической схеме Гостеприимства Авраама, известной с древнейших времен и иллюстрирующей ветхозаветный текст о явлении трех странников в дом Авраама и Сарры. Такой «повествовательный» извод, несмотря на широкое распространение в XV–XVI веках символического «рублевского», продолжал пользоваться большой популярностью в русской иконописи. Уже в XVII столетии он стал преобладающим, причем «рублевская» схема изображения трех ангелов нередко присутствует на подобных иконах в качестве композиционного ядра. В XVIII веке извод продолжал развиваться и дал новые варианты, ориентированные на образцы западноевропейских гравюр этого сюжета. В провинциальных же памятниках часто сохранялась старая симметричная композиция, в которой изображение ангелов следовало «рублевской» схеме.
Публикуемый памятник дает яркий пример такого иконографического консерватизма. Новые черты присутствуют в нем только на уровне деталей — например, ножка стола и седалища ангелов имеют сложную барочную форму, а архитектура палат Авраама, представленных слева, несет в себе явственные черты классицизма. Некоторые предметы сервировки на столе — кувшинчики с крышкой, вилки и прочие детали — отражают бытовые изменения, произошедшие в России в XVIII столетии. Сцена заклания тельца слугой, обычно помещавшаяся перед столом на переднем плане, вынесена мастером на дальний план, на горку справа, причем действие происходит в огороженном деревянным забором загоне. Это, пожалуй, единственная оригинальная особенность в весьма консервативной по схеме композиции. Стиль живописи иконы типичен для Поволжья конца XVIII века. С одной стороны, в нем ощущается связь с традициями конца XVII столетия, выражающаяся в характере рисунка, манере письма округлых и объемных ликов, в особенностях построения формы и передачи пространства. В то же время в иконе явственно ощутимо влияние классицизма: вновь появляется условный золотой фон, поля становятся охристыми, лики приобретают холодноватый оттенок, палитра высветляется, сохраняя при этом чистые и звучные цвета, присущие поволжской иконописной традиции. Трудно точно сказать, где была создана представляемая икона, поскольку аналогии стилю ее письма можно найти в произведениях практически всех иконописных центров Верхней Волги конца XVIII века — Ярославля, Романова-Борисоглебска, Костромы и других.
Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей. Скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. Оборот закрашен светло-зеленой масляной краской. На лицевой стороне пропись на полях. Тонированные утраты и потертости золота (фон, рама по лузге, нимбы).
Богоматерь Всех скорбящих Радость
Сошествие Святого Духа


Слева: Богоматерь Всех скорбящих Радость. Конец XVIII — начало XIX века. Центральная Россия. Справа: Сошествие Святого Духа (в окладе). Конец XVIII — начало XIX века. Ярославль
Богоматерь Всех скорбящих Радость
Конец XVIII — начало XIX века. Центральная Россия. 22,7×18 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве в 2009 году. Реставрирована до поступления в собрание.
Композиция иконы представляет собой краткую и вольную переработку того варианта иконографии Богоматери Всех скорбящих Радости, где она изображается с Младенцем на руках. В общих чертах этот извод восходит к чтимой московской иконе, но в деталях отошел от нее уже весьма далеко. Богородица представлена фронтально стоящей на облаке в традиционном для данной иконографии сиянии. Она и Младенец увенчаны коронами, а в руках держат скипетр и державу. Предстоящих ей по обеим сторонам страждущих совсем немного, и их утешают всего два ангела, которые насыщают голодных и одевают нагих. В традиционной композиции присутствует не менее четырех ангелов, а все страждущие четко группируются в соответствии со своими нуждами. Вверху иконы в облаках изображен благословляющий Господь Саваоф. Эта деталь была уже не на московской, а на петербургской чудотворной иконе с тем же названием, по одной из версий, привезенной в 1711 году в новую столицу сестрой Петра I царевной Натальей Алексеевной. Таким образом, публикуемая икона не является точным списком ни с одного известного почитаемого образа Всех скорбящих Радость, а представляет собой свободную авторскую композицию, во многом навеянную светским искусством своего времени.
Стиль ее письма несет в себе довольно много черт, идущих от академического направления русской живописи конца XVIII столетия и преломленных в соответствии с традиционным художественным языком иконописи. Прежде всего, это проявляется в несколько театральных позах изображенных персонажей, их жестикуляции, выражениях лиц, соответствующих требованиям академического исторического жанра живописи с его стремлением к передаче возвышенности человеческих чувств. Личное письмо выполнено чрезвычайно тонко, с хорошей пластической проработкой формы, содержащей долю натурализма, несмотря на всю условность приемов изображения. Лики имеют холодноватый оттенок, хорошо сочетающийся с цветовой палитрой мастера, которая в целом типична для иконописи эпохи классицизма, как традиционной по стилистике, так и ориентированной на столичные новшества. Колорит довольно высветленный, чистые цвета в одеждах пригашены обильными белильными и золотыми разделками. В целом произведению присущ отчетливо уловимый оттенок столичности, позволяющий предполагать в нем аристократический заказ. Чрезвычайно характерно авторское надписание иконы — «Всех скорбящих Радость». Оно прямо указывает на то, что художник не имел отношения к старообрядческой среде, где этот извод именовался несколько иначе — «Всем скорбящим Радость». Икону трудно связать с каким-то определенным художественным центром, однако не исключена вероятность ее происхождения из поволжского региона.
Сохранность. Доска основы изначально дублирована тонким спилом на другую доску. Ориентация волокон древесины верхней части основы поперечная. Шпонок и ковчега нет. Оборот затонирован, а обрезы и торцы основы закрашены темно-коричневой краской при реставрации иконы. На лицевой стороне внизу левкасная вставка с реконструкцией живописи и рисованным кракелюром. Прописи по утратам в нижней части изображения. Потертости и тонированные утраты золота на фоне и в разделках одежд.
Сошествие Святого Духа (в окладе)
Икона — конец XVIII — начало XIX века. Ярославль. Оклад — 1831 год. Ярославль. 36,7×31,2 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. Г. Степановым и О. Б. Воробьевой.
Иконографическая схема Сошествия Святого Духа на апостолов, первоначально носившая условно-символический характер, уже в XVI столетии стала подвергаться редактированию, усиливавшему исторический аспект в передаче события. Окончательно процесс этот завершился в середине XVII века, когда из сюжета полностью исчезли символическое изображение Космоса, а также образ апостола Павла, не присутствовавшего при Сошествии, но ранее введенного в композицию для обозначения полноты Церкви. Декларацией нового извода иконографии стала работа ярославского мастера Иосифа Владимирова, созданная в 1650–1660-х годах для московского храма Троицы в Никитниках (ГИМ), в центре композиции которой помещена была Богоматерь. Во второй половине XVII века известны попытки еще более скорректировать эту иконографию в сторону исторической конкретики, дополнив сюжет фигурами наблюдавших за чудом людей, однако в русской иконописи закрепился более простой и ясный извод, аналогичный использованному Иосифом Владимировым. На публикуемой иконе Сошествие Святого Духа запечатлено в типичном для позднего времени варианте иконографии — в интерьере, с язычками пламени над головами апостолов. Архитектура внутреннего пространства прописана очень лаконично и решена в классицистических формах; пол выложен квадратными плитами, изображенными в перспективном сокращении.
Очень интересны лики персонажей: при всей условности их передачи в манере художника заметен налет академической традиции, что отражает естественный для конца XVIII — начала XIX столетия процесс влияния профессионального светского искусства на русскую иконопись, не связанную со старообрядчеством. Лики имеют очень холодный, почти белый оттенок. Высветления положены по коричнево-серому санкирю, подрумянка отсутствует. Типы ликов очень индивидуальны и выразительны — с острыми носами, слегка впавшими щеками и выступающими скулами. Апостолы изображены в довольно непринужденных позах. Что же касается их одежд, то они написаны более условно, с реминисценциями ярославской художественной традиции раннего времени: складки одежд ломкие, обильные разделки их золотом традиционны по форме. Колорит иконы очень насыщенный и яркий.

Палитра мастера включает чистый синий, малиновый бакан, зеленый, красный и желтый цвета. Точная стилистическая аналогия публикуемому памятнику — ярославская икона «Воздвижение Креста» конца XVIII века (частное собрание в Ярославле). Как многие памятники конца XVIII — начала XIX столетия, икона не имеет полей, а только тонкую линию опуши. Поэтому при изготовлении для нее в 1831 году оклада традиционная для позднего ампира широкая рамка из пальметт закрыла часть изображения, и ее прорезали в соответствии с контурами фигур на иконе. Позолочены были только венцы, а оклад оставлен белым. Таким образом, с точки зрения художественного восприятия, икона оставляет впечатление произведения декоративно не перегруженного.
Икона четырехчастная (Вознесение, Сошествие Святого Духа, Воздвижение креста, Успение), с образом Богоматери Неопалимой Купины
Чудо Георгия о змие


Слева: Икона четырехчастная (Вознесение, Сошествие Святого Духа, Воздвижение креста, Успение), с образом Богоматери Неопалимой Купины. Конец XVIII века. Справа: Чудо Георгия о змие. Конец XVIII века
Икона четырехчастная (Вознесение, Сошествие Святого Духа, Воздвижение креста, Успение), с образом Богоматери Неопалимой Купины
Конец XVIII века. Павлово-на-Оке (?). 35,9×30,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Композиция иконы совмещает в себе изображения четырех двунадесятых праздников, заключенные в пышные орнаментальные рамы. Сам принцип размещения на одной доске четырех праздников известен с XV века. В XVII столетии подобные иконы встречаются в Ярославле, а в Новое время становятся широко распространенными. Как правило, общая композиция таких икон очень проста — доска делилась на четыре одинаковых прямоугольных клейма, где и размещали выбранные сюжеты. В XVIII столетии, когда в многочастных, в основном житийных иконах активно стали применять декоративные картуши для обрамления отдельных сцен, эта тенденция затронула и четырехчастные иконы. Подобные рамки, например, встречаются на иконах «Доброчадие», где изображались четыре сцены Рождества — Богородицы, Христа, Иоанна Предтечи и святителя Николая. Рамки всех клейм стыкуются между собой, образуя единую орнаментальную плетенку, объединяющую не только сами сцены, но и пояснительные надписи к ним. Такой принцип организации сюжетов встречается на памятниках, связанных с нижегородским регионом, в частности с селом Павловом-на-Оке. Орнаментика рамки соответствует стилю рококо и близка мотивам, использовавшимся на серебряных чеканных окладах последней трети XVIII века.
Поскольку клейма на публикуемой иконе имеют овальную форму, то на образовавшемся в центре ромбе дополнительно была помещена Богоматерь Неопалимая Купина, придающая образу охранительный смысл, поскольку в Новое время она воспринималась исключительно как защитница от пожаров. Представленные на иконе праздники даны в традиционной для своего времени иконографии. Обращает внимание трехчетвертной поворот фигуры Богоматери в сцене «Вознесение», пришедший в русскую иконографию через гравюры западных лицевых Библий, а также необычный разворот кресла Богородицы в сцене «Сошествие Святого Духа». Живопись в клеймах тонкая и нарядная, палитра разнообразная, изображение насыщено изящными орнаментальными деталями. Пейзаж и архитектурные формы переданы очень декоративно, в чем проявляет себя поволжская художественная традиция. Лики выполнены в подражание строгановским образцам, в то время как рисунок одежд и их щедрые золотые разделки напоминают о поволжской иконописи конца XVII века. Все эти особенности сближают произведение с «павловскими письмами» — произведениями старообрядцев-поповцев, живших в селе Павлове-на-Оке. Наиболее близка публикуемому произведению — как по принципам построения композиции, так и по живописи — икона «Благоверный князь Александр Невский, со сценами жития» конца XVIII века из нижегородского Архангельского собора (НГХМ).
Сохранность. Доска без ковчега, цельная, стесана с оборота, шпонок нет. На обороте трещина по текстуре древесины справа. Выщербины по сучку внизу слева. Обрезы и торцы залевкашены и закрашены красной краской. На лицевой стороне мелкие сколы по краям. Авторское золото сильно потерто и утрачено. Утраты восполнены, надписи на нимбах выполнены заново с ошибками. Красные фоны картушей с надписями прописаны. Мелкие утраты по всей поверхности. Тонировки и прописи по разделкам одежд. Недоснятое покрытие.
Чудо Георгия о змие
Конец XVIII — начало XIX века. Поволжье. 36,6×32,1 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.
Великомученик Георгий (ум. 303) — наиболее почитаемый святой воин во всем христианском мире. Одно из самых известных чудес святого — «Чудо о змие», которое в греческой традиции считается совершенным им при жизни, а в славянской относится к числу посмертных. Согласно ему, св. Георгий спас жителей города (источники дают различное его наименование) от страшного змия, требовавшего на съедение молодых девушек. Сюжет «Чуда о змие» принадлежит к числу самых любимых в русской иконописной традиции. Древнейшие образы этой иконографии относятся к началу XIV столетия, и в дальнейшем интерес к ней никогда не затухал. Она продолжала пользоваться огромной популярностью и в Новое время. Иконы на этот сюжет были востребованы во всех слоях русского общества — от столичной аристократии до крестьян отдаленных земель. В иконописи старообрядческих центров этот сюжет также встречается практически повсеместно.
Публикуемая икона, судя по нарядности и богатству ее красочной палитры, декоративности композиции и рисунка, реминисценциям формальных приемов иконописи конца XVII века, связана с иконописной культурой Поволжья. Трудно сказать, в каком конкретно центре она была создана, но причастность ее к поволжским художественным традициям несомненна. Художник использует классический вариант иконографии, где святой воин пронзает выползающего из водоема змия копьем, а спасенная царская дочь держит усмиренное чудовище за веревку, обвитую и завязанную вокруг его шеи. Изображение царевны напоминает образцы конца XVII столетия: она представлена в таких же узорных расшитых золотом одеждах, прописанных цветными лаками. Художник не включил в композицию ее родителей, ограничившись фигурой одной девушки, которая стоит на ступенях дворца, а по сторонам от нее — раздвинутые, как театральный занавес, пышные завесы входа. На полях помещены патрональные святые заказчиков образа — преподобный Антоний Римлянин и Анна Пророчица. Иконописец превращает в изысканный и очень эффектный орнамент изображение горки с лещадками, покрывает крупными и мелкими узорами архитектурные формы. В его палитре соседствуют чистые и звонкие цвета — малиновый, красный, синий, светлая охра, золото, образующие звучный и праздничный цветовой аккорд. Стиль письма иконы и общий светлый ее колорит вполне традиционны для конца XVIII — начала XIX века. Хотя в исполнении ликов присутствует пластическая передача в духе «живоподобия», тем не менее, во всем остальном художественный язык произведения вполне условный. Интересен прием цветовой растяжки фона, примененный не только в основной сцене, но даже в большей степени в дополнительных изображениях. Цвет фона переходит от густо-синего вверху к светло-желтому вдоль линии горизонта, и в этом, как и в других цветовых сочетаниях, несомненно просматривается связь с традициями провинциальной барочной иконы второй половины XVIII века.
Сохранность. Доска без ковчега, сдублирована на кипарисную основу. Волокна верхней доски ориентированы горизонтально. Доска растрескалась, скреплена на торцах деревянными скрепами. На лицевой стороне незначительные тонированные вставки по краям, на фигуре Антония Римлянина слева, на поземе. Тонированные утраты золота. Тонировки по утратам красочного слоя. Фон и опушь прописаны.