
Душа сокрытая: образы и смыслы обыденной иконы конца XVIII — начала ХХ в.
Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Евангелие от Луки (18, 16)
Когда я был ребенком, я рисовал как Рафаэль, но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок.
Пабло Пикассо
Владимир Павлович Безобразов в 1861 году, по дороге из Мстёры в Холуй, решил заехать в старую часовню с деревянным изваянием святого чудотворца Николая, стоявшую посреди мрачного леса, о которой с трепетом рассказывал местные легенды ямщик. По одной из них, изображение святого несколько раз переносили из часовни в монастырь, но оно неизменно возвращалось в часовню. «Темнота и холод в этой древней часовне, посреди нее колоссальная белая фигура угодника, стоящего с большим мечом в руках и пустынный лес вокруг, действительно производят трепет в душе».
Как святой Николай Чудотворец предварял В. П. Безобразову путь в Холуй — один из важнейших центров «расхожей» иконы, так и резной «Святитель Никола Можайский» открывает собрание Виктора Бондаренко и вместе с ним дорогу в мир русской иконы XVIII — начала ХХ века, который поражает своим многообразием. Рядом с высокохудожественными произведениями профессиональных иконописцев соседствуют традиционные старообрядческие, академические, народные и примитивные образы, «расхожая», низовая, ремесленная, кустарная и любительская икона.
Эта причудливая мозаичная картина, ставшая особенно наглядной в XIX веке, сложилась благодаря ряду исторических, художественных (смена стилей) и экономических (формирование кустарных промыслов, ориентированных на рынок) факторов и процессов. В первую очередь сказалось проникновение в русское искусство европейских стилей, которые переориентировали систему живописи, иконописи и художественного образования. В результате сложилось несколько основных направлений русской иконописи XVIII–XIX веков.
1. Академизирующее направление (стиль «академической» иконописи), в том числе провинциальный академизм, который совпадал со стилями светского искусства, соответственно изменяясь от петровского барокко до модерна. Он характеризуется созданием новой иконографии. В рамках этого направления возникла эклектика — в ней академическая основа сочеталась с интересом к древней иконописи. Эклектичный стиль получил распространение как в столице, так и в провинции.
2. Направление, продолжавшее традиции Оружейной палаты и словно находившееся «как бы между традиционной иконой и картиной». В основе лежали творчески переработанные гравированные образцы, популярные в Оружейной палате XVII века, расцвеченные узорочьем и нарядностью. В начале XIX века ориентировалась на классицизм, сочетая его особенности с декоративностью и барочными мотивами. Характерные черты: непоследовательность в использовании прямой перспективы, смягченная объемность; одеяния условны, но при этом чрезвычайно пышны и нарядны, присутствуют золотые пробела, цвет играет декоративную роль.
В этот же период возникает такое явление как примитив, под которым принято понимать «… творчество мастеров, не прошедших профессиональной выучки академического толка, однако вовлеченных в общеевропейский художественный процесс XVIII–XIX веков». Примитив занимает промежуточное место между профессиональным искусством и фольклором, имея общие генетические, формальные, а отчасти и типологические черты с тем и другим, но обладая при этом собственной спецификой. Начало формирования примитива связывают с культурой Нового времени.
3. Традиционная иконопись, со старыми схемами и техникой письма, продолжала наиболее консервативный вариант иконописи XVII века, но в процессе бытования усложнилась, стала более декоративной, появилась «мелочность» и цветовая насыщенность письма. 4. Народная икона «как моленные образы, созданные мастерами из низших социальных слоев для потребителей того же социального статуса», независимо от художественного стиля, в котором она написана.
Определение, по своей сути, было сформулировано еще в постановлениях Стоглавого собора 1551 года — это дешевая икона, создававшаяся «иконниками неучами» для «простых людей поселян невеж». «Наличие всех трех компонентов (дешевизна, низкое социальное положение иконописца и таковое же потребителя) обязательно, их сочетание и породило так называемую „народную икону“».
Народная икона включает в себя: «расхожие» иконы Палеха, Мстёры и Холуя (первые два центра сохраняют средневековые черты, третий затронут влиянием барокко); иконопись Русского Севера, вдохновленную традициями «школы Оружейной палаты»; сибирский городской примитив, ориентированный на академические образцы; расцвеченные розанами южнорусские иконы, апеллирующие к барочному искусству, но тем не менее белыми ликами и схематизированными уплощенными фигурами напоминающие о византийских истоках.
Провинциальный академизм, примитив и народная икона во всем ее многообразии составляют единую группу обыденной иконы. Применение предлагаемого нами термина для данного пласта иконописи вполне обоснованно, так как он свободен от стилистических и социально-экономических привязок. Согласно толковым словарям русского языка, «обыденный», с одной стороны, означает «однодневный, в один день сделанный, одни сутки длящийся» (по В. И. Далю), с другой — «повседневный, заурядный, обыкновенный» (по Д. Н. Ушакову), что вполне характеризует особенности и скорость изготовления, плохую сохранность, идентичность и массовое распространение подобных икон, независимо от их стилистических свойств, и отделяет этот пласт поздней русской иконы от традиционной высокопрофессиональной иконы, востребованной в основном состоятельными старообрядцами, и иконы элитарной. Обыденная икона существовала в едином поле с «высоким» иконописанием и религиозной живописью Императорской Академии художеств, причем все это образотворчество было нацелено на выполнение единой задачи — создание истинного православного сакрального образа.
Несмотря на все постановления, направленные на улучшение иконного писания, от 1551 года до начала ХХ века, обыденная икона совершенно естественно входила в быт подавляющей части населения: крестьянства (85–90% населения Российской империи), мещанства, купечества — потомственного или вышедшего из крестьянства и перешедшего в разряд промышленников, с их зачастую лубочным восприятием изобразительного материала. На подобные образы, которые были привычны и каждодневны, не обращали внимания до тех пор, пока на глаза какому-нибудь воинствующему эстету или ревнителю не попадалось, с его точки зрения, «неправильное», особенно «яркое», технологически и стилистически неумелое и иконографически примитивное произведение.


Необходимо определиться, что значит «неправильность» иконного образа, и четко разграничивать две составляющие этого понятия: 1) несоответствие конфессиональное из-за неграмотности исполнителя или наличия признаков католической или протестантской культуры; 2) несоответствие предмета суждения эстетическим взглядам и вкусам оценивающего. Как правило, в большинстве случаев именно последний фактор являлся и является до сих пор главенствующим. В качестве иллюстрации хотелось бы привести лубок «Икона Почаевской Богоматери», в 1849 году изданный А. Е. Белянкиным и отпечатанный в металлографии Г. Ф. Чуксина (РГБ). Помимо абсолютного несоответствия иконографии чудотворной Почаевской иконе Богоматери, художественные, стилистические и иные особенности этого лубка являются ярким примером того, «что многие торговые люди, резав на дсках, печатают на бумаге листы икон святых изображение, инии же вельми не искуснии и неумеющие иконного мастерства делают рези странно и печатают на листах бумажных развращенно образ Спасителя нашего Иисуса Христа и Пресвятыя Богородицы и небесных сил и святых угодников Божиих, которые ни малого подобия первообразных лиц являют, токмо укор и безчестие наносят церкви Божией и иконному почитанию и изображенным лицам святым, тем неискусством своим» (Окружная грамота патриарха Иоакима, 1674 год).
В связи с этим возникает вопрос: каким образом подобное изображение было допущено к печати, напечатано и отдано в продажу теми самыми «неискусными» и малообразованными «торговыми людьми»? Согласно надписи под изображением, образ прошел цензуру, правила которой были закреплены в Цензурном уставе «Свода законов Российской империи» (1842), и был одобрен к печати цензором П. С. Делицыным. Петр Спиридонович Делицын (1795–1863) — протоиерей Русской Православной Церкви, профессор Московской духовной академии, математик, цензор, переводчик. Сотрудники Комитета по изданию творений святых отцов в русском переводе называли его не иначе как «высокопочтеннейшим отцом всех книг, нами издаваемых». Под его редакцией вышли в свет 42 тома творений святых отцов Церкви, что не оставляет ни малейшего сомнения в его образованности и высоком уровне научных познаний.
Таким образом, допуск к печати изображений, которые не только современному человеку могли показаться странными, не находился в зависимости от образования цензора, а напрямую был связан с теми эстетическими идеалами, в которых цензор был воспитан, в данном случае — в семье священника Спиридона Зарина, служившего в Знаменской церкви Переяславской ямской слободы в Москве. Простонародная художественная среда, окружавшая цензора в детстве, позволила увидеть в этом, казалось бы, неказистом образе его особую наивную трогательность и душевность.
В публикуемом лубке проявилось одно из несомненных свойств обыденной иконы — сочетание академизма с особенностями обратной перспективы, которое порождает художественную наивность, граничащую с детскостью, и особый язык изложения. Эти свойства, как свойства примитива в целом, были отмечены И. Л. Бусевой-Давыдовой, связавшей их с особенностями восприятия и изложения перспективы: многие особенности изобразительного языка древнерусской иконы «…близки к детскому рисунку и свойственны перцептивному восприятию вообще. Поэтому обратная перспектива, уплощенность объектов, зависимость изображения более от семантических аспектов, чем от визуальных, и ряд других иконных условностей стихийно возникают как в детском творчестве, так и у наивных и вообще непрофессиональных художников». Вследствие этого примитивные особенности, связанные с академизмом, подвергаются деформации, в результате «конечное произведение мастера-примитивиста (например, крепостного художника или художника дилетанта) представляет собой сплав двух способов видения и двух систем передачи видимого на полотне», и поскольку язык иконы изначально не противостоит «наивным» явлениям, то не может деформироваться даже под кистью непрофессионального или начинающего мастера (ил. 2).
В связи с этим можно отметить, что подобная икона обладает следующим свойством: «…под геометрической противоречивостью изображения вовсе не понимается геометрическая „невозможность“ изображенного», свободная трансформация изображения главной целью имеет «…наиболее полную художественную передачу сути изображаемого, даже в ущерб точности передачи видимой картины внешнего мира».
Как правило, обыденная икона рассчитана на первую ступень зрительского восприятия — «узнавание», достаточную для того, чтобы молящийся человек «перешел из области „бессознательных умозаключений“ в область эмоционального восприятия… в нем могут возбуждаться эмоции, которые и хотел возбудить художник, создавая свое произведение». В результате недостаток умения компенсируется тем, что изображение, само по себе даже внеэмоциональное, порождает у молящегося эмоциональный отклик. Но встречаются и случаи намеренного форсирования эмоций, под воздействием которых остаются незамеченными недочеты живописи. Вспомним, к примеру, гоголевского Вакулу, который был одновременно кузнецом, живописцем и церковным старостой, занимался малеванием «в досужее от дел время» и «слыл лучшим живописцем во всем околотке»; про него говорили, что «это тот самый кузнец, который малюет важно». И какое глубокое эмоциональное воздействие оказывала его живопись, выполненная на боковой стене в церкви, где он написал черта в аду, «такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: „Он бачь, яка кака намалевана!“ — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери».
Эту же особенность самоучки-живописца подметил Александр Николаевич Молчанов (1847–1916), писатель и журналист, издатель, прозаик, публицист, посетивший в Палехе мастерскую Н. М. Сафонова (Софонова): «…делает Христу глаза и что-то силится изобразить в них особенное. <…> — О чем это вы стараетесь? — Да вот прошлый год, объясняет он: — видел я эту самую икону в Киеве. Спаситель-то там таково жалостливо смотрит, что словно плакать собирается, а глаза-то ясно выглядят. Вот я и хочу такого написать, да не знаю, пробую — все как будто не так жалостливо глядит у меня…»
Уровень мастерства иконописца и организация его труда (см. ниже раздел «Расхожая икона глазами современников») сыграли несомненную и значительную роль в многообразии обыденной иконы. Теперь мастера разделились на две основные группы: 1) с иконописной выучкой, 2) с живописной выучкой, позже с образованием академического типа. Первые писали традиционные образы по старинной технологии, вторые создавали живописные произведения по академическим принципам. В смешанную группу вошли иконники, переучившиеся на живописцев (то есть перешедшие с обратной на прямую перспективу со всеми вытекающими особенностями), и живописцы, писавшие в академической манере по традиционным иконным образцам, подстраивая их под классическую живописную систему. К ним же можно отнести и ремесленника-универсала — «маляр, живописец и иконописец одновременно — типичная фигура в русской провинции XVIII–XIX столетий».


Уровень мастерства во всех группах варьировался. Нижнюю ступень занимали ученики и неграмотные иконники, с детства находившиеся в иконописной мастерской и приученные всю жизнь писать какой-то определенный элемент изображения. Иван Александрович Голышев (1838–1896), мстёрский краевед и издатель, отмечал, что они стали объектом сатирического описания в прессе: в еженедельном журнале «Школа рисования», издаваемом в 1859–1861 годах художником и археологом Д. М. Струковым, упоминался случай, когда «раз обратились к одному из мастеров с вопросом: какого угодника он изображает, то получили ответ: „Не знаю подписывать будет другой а не я“».
Ступенью выше следовали самоучки, научившиеся мастерству благодаря бесконечному копированию одних и тех же образцов. «Ремесленное копирование высоких художественных образцов имеет в русской культуре давнюю традицию. Своими корнями она уходит в эпоху средневековья. Для русского иконописца ориентация на образец — будь то первообраз, с которого делался список, или прорись из иконописного подлинника — была больше, чем приемом. Это одна из основ его творческого метода». Среди самоучек выделялись даровитые мастера, смогшие развить в себе этот талант до высокого уровня наглядного копирования или даже импровизации, как гоголевский Вакула. Внимательность и опытность глаза мастеров была столь велика, что они могли сделать заочно копию с единожды виденной иконы для помещения ее в храме, где находился оригинал. «Бывает, что копия „малость посвежее“ образца, но грубой ошибки еще ни разу не было» (ил. 3, 4).
Завершали художественную иерархию авторов обыденной иконы иконописцы и живописцы, получившие базовое художественное образование, домашнее или профессиональное, будь то известная иконописная мастерская, Императорская Академия художеств, класс православного иконописания при ней или художественная школа, которые во множестве открыли в конце XIX века по всей России.
Особенностью данной группы являлось знание и достаточно профессиональное владение навыками мастерства, но при этом мера способностей того или иного мастера и стоявшие перед ним задачи не позволяли (к тому же, очевидно, не вызывали желания) подняться до уровня элитарной иконы и религиозной живописи (ил. 5). Результатом деятельности самых разнообразных иконописцев явился огромный мир повседневной, обыденной иконы на всем пространстве русского благочестия. Несмотря на всю пестроту стилей, техник и умений, эта икона обладала рядом универсальных свойств и принципов.
Копирование и воспроизведение
В XVIII–XIX столетиях в обыденной иконе, наряду с обращением к продолжавшим существовать прорисям и иконописным подлинникам, сложилось несколько типов копирования и воспроизведения. Один из них — копирование непосредственно самих икон. Для древнерусского понимания копии дословность не являлась обязательным признаком, «важно было перенести на другую доску не столько набор формальных признаков, сколько святость первообраза». Точное копирование, или «археологический подход к воспроизведению образца», активно распространилось уже в XIX веке. Прославление большого числа икон одного и того же извода, различать которые стало возможным после добавления в название топонима по месту прославления (Казанская Вышенская, Казанская Каплуновская, Казанская Площанская и т. п.), требовало конкретизации признаков протографа и, соответственно, воспроизведения в копии его мельчайших деталей. Например, списки Казанской Вышенской иконы изображали образ в драгоценном окладе и с привесом — наперсным крестом. Подобная дословность предполагала перенесение на список благодатных и чудодейственных свойств конкретной чудотворной иконы, что дополнительно усиливалось сопроводительной надписью, закреплявшей связь с протографом не только визуально-иконографически, но и исторически.


В качестве примера можно привести образ Богоматери «Пряжевская Горнальская», оригинал которого прославился в 1792 году в Николаевском Белогорском Горнальском монастыре Курской губернии. После многочисленных исцелений списки иконы распространились по южным губерниям Российской империи. Данная икона представляет собой список со списка. Прямая связь с чудотворным оригиналом закреплена не только текстологически — надписью «Образ Пресвятыя Богородицы Пряжевския», но и иконографически, изображением драгоценных венцов и жемчужных бус, ожерелий и золотых цепей с медальонами (ил. 6). Эти украшения в упрощенной форме воспроизводят элементы оклада и вотивные дары-привесы (монисто из золотых монет, подвеска со смарагдом и т. д.), ставшие неотъемлемой частью иконографии чудотворного Горнальского образа. По иконографии близка к данной иконе Пряжевская Горнальская XVIII века из Троицкой церкви города Суджа Курской области (местонахождение в настоящее время неизвестно).
Интересным примером копирования выглядит икона «Богоматерь Ватопедская». Согласно надписи, она представляет собой «изображение иконы Пресвятыя Богородицы Ватопецкой, которую имел у себя в палатах святитель Димитрий, а ныне обретается [у] ево гроба» (ил. 7). Икона была привезена в Ростов святителем Димитрием Ростовским (1651–1709) при вступлении на митрополичью кафедру 1 марта 1702 года. После его кончины 28 октября 1709 года образ два дня находился при его гробе в церкви Всемилостивого Спаса Ростовского архиерейского дома, затем около месяца — в ростовском Успенском соборе в ожидании прибытия местоблюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского). Образ участвовал в погребальной процессии с телом святителя Димитрия из Успенского собора в Спасо-Яковлевский монастырь 25 ноября 1709 года и был оставлен при гробнице святого в Троицком (Зачатьевском) соборе обители. С 1757 года икона находилась вблизи от раки святого.
Казалось бы, у Ватопедской иконы из собрания Виктора Бондаренко нет ничего общего с келейным образом, принадлежавшим святителю Димитрию и датируемым второй четвертью — серединой XVI века. При этом она действительно является списком древней ростовской святыни, поскольку воспроизводит и транслирует то, как Ватопедская икона святителя Димитрия выглядела в XVIII веке, когда ее первоначальный облик был скрыт многочисленными записями.
Копирование памятников древней иконописи по заказам ценителей-старообрядцев по смыслу и приемам было более свободным по отношению к оригиналу, поскольку, вместе с иконографией, требовалось воспроизвести стиль (пошиб). Подобное копирование можно назвать имитационным, как на иконе «Явление архангела Михаила Иисусу Навину» (ил. 8).
Следующий тип воспроизведения — копирование печатных оригиналов, в первую очередь гравированных, — был унаследован от искусства XVII столетия. Художники Оружейной палаты «охотно пользовались западноевропейскими гравированными оригиналами, которые интерпретировали в духе собственных представлений об иконописании. Изменения касались трактовки пространства, украшения или упрощения композиции, некоторых неканонических деталей».
В основе указанных типов копирования лежит интерпретационный принцип — изменения зависят от личных умений и навыков иконописца, в случае с европейскими образцами несомненную роль играет православная ментальность копирующего, в рамках которой он излагает базовую иконографию.
В основе иконографии образа «Рождество Богородицы» лежит западноевропейская гравюра, выполненная предположительно по произведению итальянского мастера круга Гвидо Рени, к которому обращался не только автор данной иконы. О существовании общего гравированного образца свидетельствует икона «Рождество Богородицы» письма Андрея Меркурьева Поспелова и Филиппа Артемьева Попова 1728–1729 годов из Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (ил. 9). Этот же источник частично использовал в своей картине «Рождество Девы Марии», находящейся в одном из храмов города Просто ди Пьюро (Prosto di Piuro, Пьемонт, Италия), французский художник Жак де Летен (Jacques de Létin, Jacques Ninet de Lestin, 1597–1661).


Художественные особенности иконы из собрания Виктора Бондаренко позволяют предположить, что иконописец обучался приемам и манере европейской живописи, имея уже опыт иконописания. Он неплохо справился с изображением статичных элементов, драпировок в интерьере, а также с прямой перспективой архитектурных элементов (колонны, камин, ступени, дверной проем). Перспектива глубокого пространства в гравюре оказалась сложна для воспроизведения, поэтому мастер сместил первый и второй планы, оформил дверной проем почти как иконное клеймо, теперь более напоминающее картину в раме на стене европейского дома, изменил внешний вид некоторых деталей, например колыбели. Некоторое затруднение представляли подвижные элементы, в которых сочетание обратной и прямой перспективы исказило ракурсы, повороты фигур, профили, движения и облегающую тела одежду. Лики, выполненные в иконописной технике, потеряли индивидуальность, повороты неестественно перекрутили тела, особенно у служанки, стоящей спиной. Обилие складок тканей, скрывающих фигуры, прибавило сложности в исполнении. При этом «перспективные» странности в сочетании с иконными ликами и контрастным цветовым решением, несомненно, добавили образу эмоциональности и даже экспрессивности (ил. 9, 10).
Образ «Христос Добрый Пастырь и Видение Небесного Иерусалима» написан по гравюре из Библии Пискатора (гравер Юлиус Гольциус (Julius Goltzius, 1555 — после 1601) по рисунку Мартена де Воса (Maerten de Vos, 1532–1603)). Автор, достаточно точно скопировав основные элементы композиции, заметно укрупнил фигуру Христа, тем самым усилив «иконное» начало. В результате конец креста в перспективе закрыл бы верх задних ворот небесного града, так что иконописец укоротил крест, убрав с него верхнюю таблицу-перекладину. Желтый цвет стен примерно соответствует описанию в Откровении (яшма — камень разных оттенков, в том числе и желтого), вместо цветных оснований стены разноцветными сделаны врата (ил. 11, 12).


Еще один тип создания иконного образа в Синодальный период, где «авторы икон чувствуют себя вправе менять композицию, свободно выбирать цветовое решение», также основанный на интерпретационном принципе, предполагал не дословное копирование, а воспроизведение в иконописи «академического» направления: а) оригинальных икон русских иконописцев Нового времени; б) европейских оригиналов, принадлежащих как выдающимся живописцам (Рафаэль, Рубенс, Гвидо Рени, Мурильо и др.), так и малоизвестным художникам, чье творчество было растиражировано печатной графикой. Копирование, свободное по отношению к иконному оригиналу, ярко проявило себя в образах, воспроизводивших, например, иконы В. Л. Боровиковского (1757–1825). «Богоматерь „Всех скорбящих Радость“» представляет собой сокращенный вариант иконы В. Л. Боровиковского «Богоматерь „Всех скорбящих Радость“, с коленопреклоненными воином и епископом» (предположительно Георгием Победоносцем и Николаем Чудотворцем), которую он написал в 1810 — начале 1820‑х годов, вероятно, для церкви в усадьбе Д. П. Трощинского в селе Кибинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Местонахождение иконы неизвестно, эскиз образа (картон, масло) находился в собрании Д. П. Трощинского, ныне — в Русском музее (ил. 13, 14).


Очевидно, что список из собрания Виктора Бондаренко был выполнен в качестве натурной копии самой иконы. Композиция оказалась значительно сокращена и упрощена в деталях. Исчезли предстоящие святые, сократилось число херувимов вокруг головы Богоматери и фигур второго и дальнего плана, страждущие на первом плане были выписаны более масштабно и придвинулись ближе к зрителю и к центру композиции. Это перемещение вызвало изменение пейзажного расстояния и положения персонажей относительно друг друга. Цветовая гамма стала более яркой и контрастной, на смену оливковой тональности нижнего регистра у Боровиковского пришли коричневый, черный и синий цвета. Мелкие детали исполнены более обобщенно. Тончайшая лессировка и особая миловидность почти фарфоровых ликов Богоматери и ангелов свидетельствуют о значительном влиянии на иконописца произведений русской живописи эпохи правления императора Николая I, в частности, К. П. Брюллова и Т. А. Неффа.
В иконе «Архангел Михаил Воевода грозных сил» стилистика и цветовая гамма воспроизводят живописную манеру и колористику икон кисти В. Л. Боровиковского 1784 года из Троицкой церкви в городе Миргороде Полтавской губернии — двух образов Богоматери и одного образа Христа, вплоть до черт ликов, а также зигзагообразных молний из верхнего левого угла, являвшихся отличительной чертой произведений художника (В. Л. Боровиковский, «Архангел Михаил», 1810 — первая половина 1820‑х годов, ГРМ). Возможно, данная икона является копией с несохранившегося образа кисти В. Л. Боровиковского, исполненной провинциальным малороссийским иконописцем в первой четверти XIX века) (ил. 15).
Интерпретационный принцип весьма ярко проявил себя в иконе «Спас Нерукотворный». Иконописец в живописной манере В. Л. Боровиковского по-своему переосмысливает европейскую иконографию с двумя ангелами, держащими Убрус. Они стоят в рост за платом и делают одновременный шаг с правой ноги. Казалось бы, что ангел слева занимает главенствующее положение, поскольку он держит плат обеими руками. В то же время ангел, стоящий справа, делает шаг вперед дальше, и именно он облачен в царскую багряницу. Лики на иконе, очевидно, носят портретный характер, ангельские напоминают изображения великих князей, образ Спаса наделен чертами императора Александра I, вплоть до широких скул, заостренного кончика носа и ямочки на подбородке (ил. 16, 17).
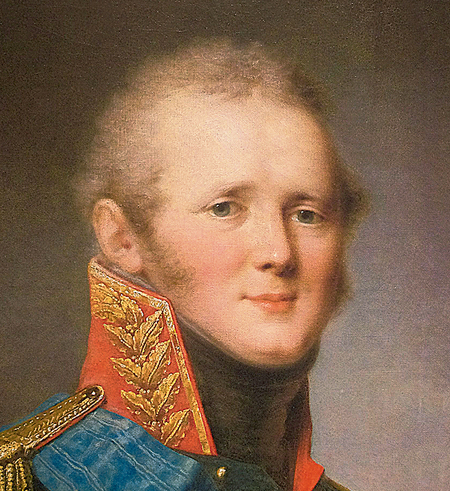

Изображение реальных лиц на иконе восходило к западноевропейской традиции включения донатора в сакральное пространство образа. В Российской империи подобные произведения имели заметное распространение на западных и юго-западных землях, где православная, католическая и протестантская культуры существовали в тесном контакте. По наблюдению И. Э. Грабаря, «наряду с иконами, где жертвователь помещался рядом со священным изображением, встречаются нередко случаи, когда его портрет сливается с изображением самого святого». Этот процесс неоднократно отмечался исследователями как в синодальной, так и в старообрядческой иконе XVIII–XIX столетий. Возможно предположить, что данная икона была выполнена по заказу одного из членов императорской фамилии в память об императоре Александре I, отпевание которого происходило в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади (Спасо-Конюшенная церковь) в Санкт-Петербурге. Заказчик пожелал, чтобы автор иконы запечатлел самого императора, в образах ангелов — великого князя Константина, наследника престола по праву первородства (слева), и его брата Николая, взошедшего на престол в 1825 году.
Интерпретация первообраза в академической стилистике обнаруживается первоначально при использовании иконописцами европейских гравюр, ассортимент которых значительно пополнился в XIX столетии графическими образцами по произведениям русских художников. Интересным примером переработки европейского протографа служит икона «Преподобный Сергий Чудотворец», где молящийся преподобный в действительности является святым Антонием, претерпевающим всяческие искушения души и плоти в пещере. Именно этот сюжет в 1640 году воплотил нидерландский художник Давид Тенирс (David Teniers de Jonge, 1610–1690) на своем полотне, по которому в 1735 году французский гравер Жак-Филипп Ле Бас (Jacques-Philippe Le Bas, 1707–1783) выполнил офорт. Копируя европейский гравированный оригинал, русский иконописец смело очистил пространство вокруг праведника от готических существ и чудовищ, превратив католическую тему искушения в близкую и понятную православному человеку тему глубокой боговдохновенной молитвы, отшельничества и старчества (ил. 18–20).
Еще один яркий пример вольной трактовки и изложения оригинала языком академической живописи — образ «Моление о чаше», представляющий редкое для русской иконы изображение обессилевшего от молитвы в Гефсиманском саду Христа, которого поддерживает ангел. Дословная иллюстрация евангельской строки «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43) была особенно популярна среди европейских живописцев с XVII века (см., например, картину Джованни Баттиста Караччоло (Giovanni Battista Caracciolo (Battistello; 1578–1635)) «Христос на Елеонской горе», 1615–1617, Музей истории искусств, Вена, и др.). В отечественной традиции прижились два варианта сюжета «Моление о чаше»: один отсылает к произведению Ф. А. Бруни (1799–1875) 1834–1836 годов (ГРМ), опубликованному в 1862 году в «Художественном листке В. Ф. Тимма», другой — к картине немецкого художника Г. Ф. Гофмана (Heinrich Ferdinand Hofmann; 1824–1911) 1886 года, растиражированной в хромолитографиях разных издательств в конце XIX века.


Икона из собрания Виктора Бондаренко иконографически наиболее близка к картине, приписываемой итальянскому художнику Микеле Раписарди (Michele Rapisardi, 1822–1886), и являет собой пример интерпретационной переработки и воспроизведения оригинала (ил. 22).
Именно свободное обращение с первоначальной композицией, деталями и цветопередачей отличают указанные типы копирования от мелочной дословности академической штудии или заказной копии. Подобную ученическую копию, выполненную с храмовой росписи эпохи модерна, представляет собой икона «Апостол и евангелист Матфей». Обучающийся иконописец с особым тщанием скопировал детали личнóго и фурнитуру низкого кресла, напоминающего изделия мастерских Талашкина или Абрамцева, и старательно зафиксировал все разноцветные рефлексы на хитоне апостола, при этом не справившись с руками и пропорциями тела, отчего фигура словно просела по высоте (ил. 23).
Следующий пример в какой-то степени также соотносится с ученической работой. В то же время он представляет собой особый случай иконы, написанной учащимся живописцем по натурному эскизу, — это икона «Распятие Христово с разбойниками и предстоящими». В основе данной многофигурной композиции лежит фреска XVI века, находившаяся в капелле одного из итальянских (римских) храмов, подобная фреске Мазолино в Капелле Сакраменто церкви святого Климента в Риме (1428–1430). Особенностью этих росписей являлось полукруглое завершение стены, на которой располагалась настенная живопись. Художник старательно, по предварительному карандашному рисунку, который местами проглядывает из-под красочного слоя, воспроизвел своеобразную оливково-розовую цветовую гамму и перенес на доску все особенности оригинала, в том числе и арочное завершение стены капеллы, ничем не оправданное в иконе. Тонкая золотая обводка и черные поля создают эффект углубленного полукруглого пространства, который усиливается благодаря еще одной детали, говорящей и об ученичестве автора, и об архитектурном происхождении протографа — кресты, на которых распяли разбойников… изгибаются по дуге к центру. Ученический глаз воспринял сферическую поверхность под изображением, рука добросовестно зафиксировала, а затем и воспроизвела в красках, сопровождая труд тщанием, добросовестностью и художественной наивностью (ил. 24).
Образцы, используемые для копирования и воспроизведения, с одной стороны, свидетельствуют о проникновении в пространство православной культуры маркирующих знаков католического и протестантского мира, а с другой — «…об активном содействии этому перемещению законов формообразования низового, народно-ремесленного слоя искусства. Усваивая эти образцы в отраженном виде, народные ремесленники XVIII–XIX вв. подсознательно следовали… установке на цитату — и привлекали целый набор самых разных стилевых тенденций».
Использование европейских графических образцов «в отраженном виде» представляет собой цитату не прямую, которая есть дословное воспроизведение. В силу того, что графический образец (гравюра, ксилография, литография) также не является дословной цитатой из-за отсутствия цветопередачи, их копирование в русской иконе представляет собой процесс многоступенчатого опосредованного цитирования и ассимиляции — растворения католического / протестантского видения в православной ментальности до степени смешения, когда достигается определенный уровень тождественности художественных образов, при котором «чужое» воспринимается как «свое исконное». Наиболее ярко этот процесс проявил себя в копировании образов Божией Матери с Младенцем с гравюр по оригиналам Питера Пауля Рубенса и других европейских художников.
Икона «Богоматерь „Трех радостей“» восходит к гравюре Корнелиса Блумарта (Cornelis Bloemaert II; 1603–1692) «Святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем», около 1630, по оригиналу Аннибале Карраччи (Annibale Carracci, 1560/1561–1609) «Мадонна Монтальто» (1597–1598, Национальная галерея, Лондон). Это одна из самых копируемых работ художника, которая также многократно репродуцировалась в гравюрах. «Иконы такого типа связаны с городской или усадебной культурой. Иногда заказчики сами предлагали иконописцу образец композиции — чаще всего гравюру. <…> Если этот образец не всегда вполне соответствовал православным нормам (например, глава Богоматери была непокрыта, Младенец — обнаженным), в композицию вносили изменения». Действительно, образ был непосредственно связан с городской дворянской культурой конца XVIII века, поскольку принадлежал Александре Петровне Масловой, урожденной Нелидовой (? –1848), сестре Клеопатры Петровны Нащокиной (1767–1828), матери П. В. Нащокина, друга А. С. Пушкина.


Живописец создал новый архитектурный стаффаж, превратив его в интерьер провинциально-дворянской усадьбы с занавешенным окном, классицистической колонной на пьедестале и двумя столами, покрытыми скатертями. Изменив некоторые жесты, он придал иное звучание всей композиции: Иоанн Креститель теперь держит в левой руке неразвернутый свиток, которого у него не было на гравюре, как символ своей будущей проповеди и пророчества о Христе, а правой протягивает Младенцу крест, тем самым обозначая себя как Крестителя Христова и предрекая грядущие Крестные страдания. Указательный перст левой руки Богоматери, в оригинале спокойно лежащий, теперь направлен диагонально влево, создавая параллельное движение со взглядами Матери и Младенца (ил. 25, 26).
В провинциальных русских образах Богоматери и Младенца на иконе «Взыскание погибших» практически невозможно различить оригинал кисти П. П. Рубенса «Мадонна с Младенцем» (около 1615, ГЭ), который переложил на язык гравюры в первой половине XVII века Схелте Адамс Болсверт (Schelte Adamsz Bolswert, 1586–1659) (ил. 27–29). Икона «Взыскание погибших» прославилась в России в 1707 году в Георгиевской церкви города Болхова Орловской губернии. В синодальной традиции отмечено два варианта иконографии, отличающиеся положением перстов Богоматери, ее облачением (мафорий / плат / непокрытая голова), основанием под ногами Младенца (парапет или правое колено Матери), соприкосновением ликов, а также фоном (окно / пейзаж / нейтральный фон). Данная икона относится ко второму варианту иконографии, в котором персты Богоматери сомкнуты. Нейтральный фон пришел на смену идиллическому пейзажу с деревом, балюстрадой и каменной стеной, голову Богоматери покрыл белый плат, Младенец облачен в две рубашки — простую исподнюю и нарядную полупрозрачную батистовую, отороченную фиолетовой лентой по нижнему краю и напоминающую подпоясанные рубашки крестьянских детей.
Процесс ассимиляции в соответствии с православной ментальностью, замещение «чужого» «своим» наиболее ярко проявляет себя во второстепенных деталях, которые позволяют молящемуся ассоциировать события на иконе с собственным временем и одновременно чувствовать себя современником иконного сюжета по принципу: этот элемент на иконе мне знаком, он мне современен, значит, и событие, частью которого он является, современно мне.
В качестве примера можно рассмотреть ленту, которой отделана по подолу рубашечка Младенца на иконе Богоматери «Взыскание погибших». Цвет ленты не является результатом смешения или наложения красной и синей краски и представляет собой цельный пигмент именно фиолетового цвета. Подобные искусственные пигменты начали широко использовать в живописи во второй половине XIX века — темный кобальт Со3(РО4)2 с 1860‑х годов, марганцовая перманентная / марганцовая фиолетовая (NH4)2Mn2(P2O7)2 — с 1894 года. Отделка рубашки лентой выполнена в соответствии с дамской и детской модой 1860‑х годов. В этот период платья активно украшали по подолу шелковыми лентами, окрашенными недавно появившимися синтетическими анилиновыми красками. Среди них был и мовеин — краситель фиолетового цвета, который в 1856 году получил английский химик Уильям Перкин. Мовеин использовали для прямого окрашивания именно шелка и шерсти. Его производство началось в 1858 году, достигло пика в 1862‑м и практически прекратилось к 1873 году. Сочетание таких составляющих как стилистика, пигмент, мода и анилиновый краситель, современные автору, позволяют датировать икону 1860‑ми — началом 1870‑х годов.
В основе иконы «Святая Троица (Гостеприимство Авраама)» лежит гравюра, приписываемая Адриану Колларту (Adriaen Collaert; около 1560–1618), по рисунку Мартена де Воса. Во второй половине XVII века эта гравюра имела хождение в России в составе Библии Пискатора, начиная с издания 1639 года (ил. 31). С XVIII века наиболее часто именно из этого варианта «Святой Троицы» заимствовались такие детали, как коленопреклоненная фигура Авраама, перекинутый через ручку лохани плат, а также форма ножек стола.
Для полного погружения молящегося в атмосферу дома Авраама провинциальный малороссийский иконописец переносит действие в свое родное село, и теперь Сара выходит навстречу Святой Троице… из глинобитной хаты, крытой соломой. Кроме этого, натюрморт на столе дает прямую отсылку к событиям уже Нового Завета, поскольку теперь один из ангелов словно приглашает Авраама разделить с ним угощение и приобщиться (причаститься) трапезе из винограда и хлеба, рядом с которыми на столе стоят потир и дискос: все вместе они символизируют таинство Евхаристии.

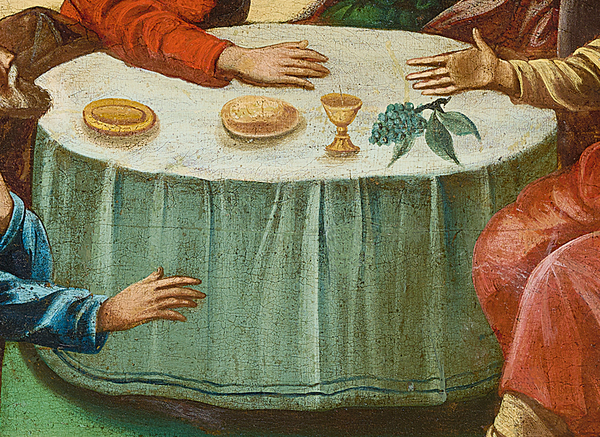
Появление в иконном пространстве конкретных деталей, имеющих точные привязки вне изображаемой эпохи, происходит в двух случаях. В первом из них иконописец свободно трактует первоисточник и вводит в икону современные ему элементы архитектуры, одежды, воинского обмундирования и оружия. Во втором мастер почти дословно воспроизводит протограф, в том числе, не задумываясь, копирует детали, современные автору оригинала и дающие отсылку ко времени создания исходного произведения. На иконе «Архангел Михаил Воевода грозных сил» голова архистратига вместо привычного антикизированного шлема неожиданно увенчана гренадерской шапкой, дополнительно украшенной плюмажем, которая использовалась в русской армии во второй половине — конце XVIII века. Тип гренадерок с высоким медным налобником с пышной барочной композицией, крепившимся на передней части матерчатой конусовидной шапки, просуществовал до конца XVIII столетия. Таким образом, на иконе, написанной в первой четверти XIX века, сохранилась вполне реальная деталь, бытовавшая во время создания оригинального произведения (ил. 34).


Подобное произошло и при создании образа «Мученики Кирик и Иулитта». Святая держит в правой руке меч — символ мученической кончины. Клинок стального цвета, прямой, двулезвийный, плавно сужающийся к острию, судя по граням, в поперечнике ромбовидный. Сложная и развитая гарда состоит из широкой S-образно изогнутой в плоскости клинка крестовины, изготовленной из плоского металлического прутка. Рукоять веретенообразной формы, навершие небольшое, в виде зерна (ил. 35). Столь подробные детали изображения меча позволили атрибутировать его как ранний валлонский меч, который появился на рубеже XVI–XVII веков в Нидерландах или Северной Германии и стал основным клинковым оружием всадника Западной Европы. Благодаря этому появилась возможность соотнести с указанным временем и географической локализацией протограф данной иконы.
В традиционной иконе «…мир реальностей был деформирован в ее глубине особым перспективным планом. Этот план абсолютно все подчиняет в пространственно-временном квадрате — „зеркале“ иконы — законам сакрального». В противовес этому икона Синодального периода, благодаря активному процессу растворения в себе европейской художественной и иконографической традиции, перестала замыкать сакральное только во внутреннем пространстве иконы и начала транслировать его вовне, в том числе благодаря особенностям линейной перспективы. Учительная и нравственно-назидательная функции приобретали еще большее значение, поскольку привычные знаки повседневности уже не требовали разъяснения, они делали молящегося сопричастным событиям, разворачивавшимся на иконе. Теперь молитва перед иконой приобрела «…сложное историко-культурное наполнение. Жест, слово и иконография обнаруживают то единство языка религиозной культуры, которому порой была неподвластна скоротечность событий».
В собрании Виктора Бондаренко есть образы, пространственный и предметный мир которых переносит события первых веков христианства в современную иконописцу Россию, создавая эффект своеобразного déjà vu — то, что казалось неизвестным, давно и хорошо известно, имевшее место в прошлом теперь переживается в настоящем.
Один из вариантов иконографии великомученицы Варвары предполагает изображение башни, в которой она пребывала в отроческом возрасте. На иконе «Великомученица Варвара» справа вверху за святой вместо башни написано каменное строение со скатной крышей, барабаном с куполом и маленькой главкой, увенчанной крестом, напоминающее изображение одного из приделов собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Очевидно, что киевский иконописец изобразил ту часть монастырского собора, в которой находились мощи великомученицы Варвары: «…с задней стороны северного хороса изящный алтарь… Внутри этого алтаря красивая рака с мощами св. Варвары Баальбекской (Илиопольской)». Примечательно, что на барабане живописец написал три окна, напоминающие о трех окнах, которые святая повелела вырубить в честь Святой Троицы в термах, построенных по приказу ее отца и гонителя Диоскора (ил. 36).
В иконе «Преставление преподобного Алексия человека Божия» («По смерти како обретеся») наблюдается процесс активной творческой переработки западноевропейского исторического сюжета в русских реалиях, современных иконописцу, и полного растворения «чужого» в «своем». Икона представляет редкий на русской почве образец западноевропейской иконографии, получившей распространение в XVII–XVIII веках благодаря гравюрным образцам. Здесь запечатлен момент, когда гроб с телом почившего святого Алексия, по велению императора, в сопровождении папы Римского, епископов и толп народа, пришедших ему поклониться, установили на Римском форуме и поставили рядом с Триумфальной аркой Тита. Однако если приглядеться повнимательней, кажется, будто перед зрителем разворачивается картина похорон в губернском городе N. Римская панорама с колоннадами и портиками напоминает центральную площадь, окруженную зданиями губернского правления, банка, дворянского собрания, суда и домами важнейших жителей.
Папа Римский предстает в образе епархиального архиерея, римский император, несомненно, напоминает благоверного князя Александра Невского с икон конца XVIII — первой половины XIX века. Хитоны и гиматии вполне привычны русскому глазу, так как соотносятся с традиционными облачениями на иконе, в то же время невеста в траурном черном одеянии и пожилая женщина в платке — вполне узнаваемые, вневременные универсальные архетипы. Из всей толпы страждущих выделяется только молодой человек в плаще и со шляпой в руках, да и тот представляет собой вполне привычный в XIX веке городской тип, хотя и не вписывается в канву житийного сюжета и весьма напоминает автопортрет художника, включенный в число действующих лиц. Его одежды соответствуют как моде первой половины XIX века — плащ-пелерина с отложным воротником и условный «боливар», так и студенческой моде 1860–1870‑х годов, потому что держимая им в руках «…широкополая шляпа, вне всякого сомнения, связана с внимательным чтением работ А. И. Герцена, в которых неоднократно упоминается шляпа под названием „калабреза“, ставшая символом борьбы за свободу и независимость Италии. Однако к концу (19‑го. — И. З.) века итальянское происхождение „революционной“ шляпы было забыто, и она получила название „пушкинской“».
Эклектичность церковного искусства Синодального периода выработала новый подход к процессу создания иконы, который включал в себя не только традиционное копирование и воспроизведение, но также и тиражирование. Последнее явилось результатом развития иконописи как кустарного промысла, ориентированного на рынок, и появления механических способов создания массовой иконной продукции (печатные иконы на бумаге и жести). К дословному копированию, которое напрямую было связано с механическим тиражным воспроизведением, относились гравюра, офорт, литография, метахромотипия и хромолитография.
Метахромотипия — особый способ получения литографским путем цветных изображений и перенесения их на другие предметы. Активное использование этого способа пришлось на 1860‑е годы. Данный термин применялся при копировании икон и других изображений для церковного дела; тот же способ в заводской и фабричной промышленности именовался декалькоманией или деколью (переводной рисунок на фарфоре). В 1865 году священник В. Владимиров весьма подробно описал процесс метахромотипии и ее возможное применение в церковном искусстве. При копировании иконы иконописец снимал контур на тонкую бумагу и переносил его на холст или доску, либо икону фотографировали, контур раскрашивали в строгом соответствии с оригиналом. Полученную копию переводили на столько литографических камней, сколько красок было в оригинале. Затем специальную бумагу покрывали растительным раствором и печатали с камней изображение масляными красками в обратном порядке — верхние слои вниз, нижние вверх. «Отпечатав на означенной бумаге сколько угодно икон, покрывают их переводным лаком и накладывают каждый лист на поверхность дерева, холста, клеенки, пергамента, финифти, перламутра, стекла, шелковой или бумажной материи и проч.». Для памятников на кладбищах в качестве иконной основы выступали медные, железные, мраморные доски и даже кафель. Затем изнанку бумаги смачивали водой, и рисунок переходил на новую основу.
При изготовлении икон в византийском стиле доску покрывали листовым золотом и поверх переводили рисунок так, чтобы «где это нужно, золотой фон просвечивал сквозь краски». Если фон был узорчатый, то на него переводили рисунок узора или парчи и сверху покрывали листовым золотом, «причем все возвышения и впадины этого узора сообщаются позолоте». После покрытия лаком иконы «могут быть обмываемы кипятком без повреждения живописи и полировки». По словам В. Владимирова, «…в настоящее время способом метахромотипии печатаются тысячи копий со всякого оригинального изображения и исполняется это так, что между оригиналом и копиями, от первой до последней, не существует ни малейшей разницы ни в идее рисунка, ни в композиции, ни в колорите, ни в мельчайших оттенках, а потому метахромотипия должна оказать огромную услугу церковной живописи распространением в народе превосходных и совершенно точных копий как с чудотворных икон, так писанных знаменитыми художниками, и с ознакомлением самых недостаточных людей с славными произведениями в иконописи».
На смену метахромотипии во второй половине XIX века пришла хромолитография — цветная литография, при создании которой для нанесения каждого цвета применялась отдельная печатная форма (до 20 и более) на камне или цинковой пластине, на которые предварительно всегда наносился контур цветового пятна. Хромолитография стала основной техникой для практически дословного копирования, воспроизведения в цвете и тиражирования икон на бумаге и жести.
Протограф, образец, копия
В русской иконописи Нового времени обозначился иной подход к выбору иконографического источника, изменилось его происхождение, стиль, состав, материал и техника изготовления, в чем несомненную роль сыграло проникновение светской культуры и живописной манеры. Задача и конечная цель, стоящая перед иконописцем, осталась прежняя — создать тот образ, при посредстве которого молящийся мог бы мысленно возноситься к первообразу — Богу. Однако теперь изменился подход к решению этой задачи и средства для достижения цели. Моменты реальности не нарушают и не разрушают иконописный язык, поскольку каким бы путем ни шло создание образов святых, «…чрез свободное ли вдохновенное творчество или чрез принятие унаследованных церковными преданиями образов — все равно; но искусство живописи, не выходя из пределов логики и правды, не прибегая к символизации, должно создаваемый образ не отдалять от натурального, жизненного человеческого образа. Нужно только очистить такой образ от выражения в нем человеческих страстей и придать ему образы красоты духовной. Церковной живописи не должны быть чужды совершенства высокой живописной техники — это не унизит религиозного искусства, но придаст ему больше выразительности, больше силы и прелести».
В эпоху эклектики XIX века сложилась определенная тенденция — одновременное сосуществование и древних, и новых форм иконных образцов в едином пространстве иконописной мастерской. Художественные свойства иконного образа (иконография, художественный стиль, манера изложения, композиция и цветовое решение) зависели от особенностей первоначального источника, в котором определенную роль играла его монохромность или полихромность. Монохромность предполагала создание копии в цветовой гамме либо в соответствии с иконописной и богословской традицией, либо по свободному выбору иконописца. К числу монохромных источников относятся: прорись, иконописный подлинник, ксилография, гравюра, в том числе гравированные лицевые святцы, офорт, литография, репродукция и фотография. Гравюра (офорт, литография, лубок и т. п.), по своей сути, представляла ту же монохромную прорись или контурный оттиск, с которого делают перевод при помощи припороха, либо эскизно копируют на глаз, либо переносят на расчерченное на клеточки поле иконы, и при копировании она регламентирует только светотеневую моделировку, предоставляя значительную свободу в выборе цвета.
Полихромными образцами, изначально задающими цветовую гамму для будущей копии, являлись непосредственно сами иконы, раскрашенные вручную гравюры, затем метахромотипии и хромолитографии. Включение в этот перечень раскрашенного лубка зависит от степени профессиональности его иллюминовки. Неаккуратная иллюминовка лубочной картинки, так называемая «раскраска по носам», не могла служить образцом при написании иконы. При использовании полихромного образца цветовая гамма копии находилась в прямой зависимости от цветовой гаммы оригинала, и, соответственно, у иконописца было меньше возможностей для импровизации.
Непременным атрибутом иконописной мастерской являлись прориси. Основную роль, особенно во владимирских иконописных селах, играл «…оттиск-перевод со старых икон: он составлял основу „припорохов“ — переводных рисунков, проколотых по контуру тонкой иглой. Нанесение этих контуров на подготовленную залевкашенную доску называлось у иконников „натиранием рисунка“». Переводы исполняли ученики и подмастерья.
«Холуйские иконописцы не имеют у себя никаких подлинников и руководствуются только Четьи-Минеями и копиями с древних икон. Копировку они производят так: по древней иконе обводят все черты черною краскою, или даже чернилами, и тотчас же накладывают белый лист бумаги; когда сделается на ней отпечаток, прокалывают по всем очеркам иглою; потом накладывают эти листы на приготовленные доски и на них бьют мешечками с толченым углем, черная пыль проникает сквозь наколотые скважины и ложится на сырой левкас; тогда мастер проводит по ним иглою, и рисунок готов». В Мстёре и Палехе для более дорогих икон использовали механические оттиски.
Рисунки, проколотые иглой, переходили из рода в род и тщательно оберегались. В каждой иконописной мастерской хранилось по несколько сотен подобных рисунков. Кроме них, образцами служили рукописные подлинники, иногда с рисунками или вклеенными лубочными картинками, но чаще они содержали только текст с описаниями праздников и святых в алфавитном или календарном порядке.
В Синодальный период на первый план вышел образец, выполненный в технике тиражной печати. Среди таких образцов ближе всего примыкали к традиционным прорисям печатные Лицевые святцы (гравера Григория Тепчегорского и др.) и календари, активное издание которых пришлось на вторую половину XIX века. Собрания образцов пополнили: «Лицевые святцы по рисункам академика Ф. Г. Солнцева» (М., 1866), «Святцы с изображением двунадесятых праздников» (М., 1866), «Святцы, составленные из христианского памятника с показанием в оных дванадесятых праздников и явление чудотворных икон» (М.: Издание П. А. Глушкова, 1870), «Святцы с 15‑ю изображениями двунадесятых праздников» (М., 1878), «Полные святцы с картинками» И. Ключарева (М.: Издание книгопродавца А. А. Абрамова, 1886), «Иллюстрированный православный церковный календарь на 1888 год» (СПб.: Издание И. Л. Тузова, 1887). В начале ХХ века значительную работу над созданием новых иконных образцов проделал академик В. Д. Фартусов (Изображения священных событий Библии и церковной истории: [в 4 ч.]. М.: Изд. автора, 1906–1910; Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года, содержащее сказание о внешнем виде их, об одеждах, возрасте, типе, с приложением рисунков одежд. М.: Синодальная типография, 1910).
В иконописных мастерских целенаправленно собирали и хранили различные материалы, которые могли быть использованы в качестве образцов. Их количество исчислялось сотнями даже в провинции, как в иконописной мастерской посада Клинцы (современная Брянская область) — «образцов на бумаге разных икон 700 листов».
Подобные коллекции преследовали две цели — сбор образцов для написания икон и обучение иконописцев и живописцев. В основе такого собирательства лежал принцип универсальности идеалов красоты Божественного, позволявший использовать в качестве протографов произведения не только православной, но и католической культуры. Наиболее четко этот феномен отразился в изображениях Матери с Младенцем, вневременного и внекультурного универсального символа, сочетающего в себе красоту Божественного и божественность Красоты. Описанный принцип был напрямую связан с новым взглядом на Красоту как таковую, сформировавшимся в эпоху барокко как в Европе, так и в России. «Складывающийся каждый раз по-новому калейдоскоп форм и их сочетаний приходит на смену природой данным моделям, объективным и непреложным, …глубокая этичность этой Красоты заключается не в соблюдении строгих канонов политической и религиозной власти… а скорее в целостном ощущении художественного творчества». Теперь «прекрасное» и что прекрасно «определяется тем, как мы это воспринимаем, через анализ сознания того, кто выносит суждения. <…> Что прекрасное есть нечто, представляющееся таковым нашему восприятию», то есть красота в данном случае рассматривается как свойство объекта, который считает прекрасным смотрящий на него.
«Знаки» чужой культуры как неотъемлемая часть универсальных символов допустимы для использования и копирования при условии собственного визуального комментария или иконографической трансформации с точки зрения национальной православной ментальности. В этом случае можно говорить о трех формах принятия идеалов красоты Божественного, рожденных в иной конфессиональной среде: — полном принятии (многочисленные изображения Мадонны с Младенцем); — категорическом неприятии / отторжении (образы католических святых, канонизированных после разделения Церквей); — пограничном принятии. Последнее характерно для территорий совместного проживания православных и католиков, а также для территорий, находившихся под длительным влиянием католического мира, как, например, юго-западные земли Российской империи, до середины XVII века входившие в состав Речи Посполитой (списки Ченстоховской иконы с местными топонимическими называниями — Суражская, Озерянская, Новодворская, или образ Христа «Добрый пастырь» с пламенеющим сердцем и т. п.).
В этом отношении весьма показательно собрание книг по гравированию и живописи библиотеки Киево-Печерской лавры первой трети XVIII века, основную часть которого составляли лицевые Библии, изданные в Германии, преимущественно в Аугсбурге, с конца XVII по первую четверть XVIII века, а также учебные руководства или «печатные школы, в коих даются ученику образцы для рисования в систематическом порядке», получившие название кужбушки (от нем. Kunstbuch — книга по искусству), напечатанные в XVII веке во Франции, Англии, Голландии, Венеции и Германии («Neues Reisbuch ausgegeben durch Johann Friedrich in Augspurg»). В одних были рисунки цветов, животных, пейзажей, человеческих голов, в других содержались изображения различных частей человеческого тела в порядке «постепенной трудности» рисования (руки, ноги, туловища, головы), а также имелись 315 «кунштив старых» и 569 листов других гравюр. Значительно пополнили библиотеку лавры пособия, принадлежавшие граверу, наместнику Печерскому Антонию (Александру) Тарасевичу (учился и работал в Аугсбурге у граверов братьев Килиан, ум. после 1727).
Состав их просто поражает разнообразием художественных интересов владельца и количеством листов: 1) «Архитектура французская» (251 л.); 2) книга «Атлас, или описание четырех частей света» (29 л.); 3) «Феатрон жития человеческого» (122 л.); 4) «Книга кунштов разных малярских» (122 л.); 5) «Книга различных зверей четвероногих» (135 л.); 6) «Родословия князей австрийских» (91 л.); 7) «Книга другая кунштов малярских» (120 л.); 8) «Зерцало добродетелей и грехов» (172 л.); 9) «Библия в лицах» (150 л.); 10) «Абецадло (польский алфавит. — И. З.) малярское на листу (величиной лист)» (18 л.); 11) «Книга третья кунштов малярских на лист» (937 л.); 12) «Книга одна с кунштами архитектурными» (18 л.); 13) «Книга другая с кунштами воинскими и штукаторскими» (118 л.); 14) «Книга с кунштами Коломана и Соломеи» (21 фигура); 15) «Картин разных кунштов» (58 л.); 16) «Старый и Новый Завет в белом пергаменту на листу» (277 л.); 17) «Старый и Новый Завет в копердиментах на листу» (171 л.).
Аугсбургские Библии, привезенные Антонием Тарасевичем в Киев, не могли составить конкуренцию лицевым Библиям, изданным в XVII веке в Амстердаме и ставшим в России, по словам И. Э. Грабаря, настольными книгами русских иконописцев. Сегодня они известны по именам художников или издателей: Библия Борхта — Пискатора, Евангелие Наталиса, Библия Мериана, Библия Схюта. Несомненное первенство здесь принадлежит изданию «Theatrum biblicum hoc est historiae sacrae Veteris et Novi Testament tabulis aeneis expressae. Opus praestantissimorum huius ac superioris seculi pictorum atque sculptorum, summo studio conquisitum et in lucem editum per Nicolaum Iohannis Piscatorem», благодаря Д. А. Ровинскому получившему название «Библия Пискатора». Альбом, включавший почти 500 гравюр резцом, издавался в 1639, 1643, 1650, 1674 годах в Амстердаме и в 1646 году в Алкмаре. Библия Пискатора является компиляцией из работ, которые создавали задолго до ее выхода в свет разные авторы: более двадцати граверов по оригиналам примерно такого же количества художников. В изготовлении гравюр приняли участие крупнейшие мастера Антверпена: Мартен де Вос, Ян Снеллинк, Герард ван Гронинген, Мартен ван Клеве, Ханс Вредеман де Врис и другие.
В собрании Виктора Бондаренко представлены три иконы, выполненные по гравюрам из Библии Пискатора. В иконе «Бичевание Христа» композиция довольно близко воспроизводит центральную часть гравюры фламандского гравера и художника Антониуса Вирикса II (Antonius Wierix II; 1555–1604) по рисунку Мартена де Воса для Библии Пискатора. Изменения касаются фона, деталей и ракурсов, что напрямую зависело от уровня мастерства иконописца. Наиболее точно ему удалось передать фигуру Христа, изначально показанную максимально близко к привычному иконописному канону и перспективе. Самые значительные изменения коснулись тех деталей, которые в гравюре предстают в линейной перспективе. Это касается пола, который без учета прямой перспективы был расчерчен на прямоугольные плитки и из-за этого «встал на дыбы»: воины словно соскальзывают по нему к переднему краю иконы. То же «обратное» переложение прямой перспективы перекрутило торс правого воина на 180° относительно нижней части тела (ил. 37, 38). Используя графический источник для копирования, иконописец за счет различных по насыщенности оттенков охристо-желтого и коричневого цвета с резкими черными контрастами создает цветовую гамму, приближающую образ к монохромности протографа. В эту гамму органично вписывается светло-красный цвет, образующий диагональ от рубашки воина слева через закатанный рукав к штанам воина справа. Единственным акцентом, нарушающим цветовую статичность, являются две светло-зеленые полосы на плечах воинского облачения правого воина. Уход от детализации и обобщенность форм, анатомическая диспропорция, колористическая однородность с резкими контрастами определяют необычность этого образа. Однако именно благодаря этим свойствам живопись производит сильное эмоциональное впечатление, как и всякое произведение, тяготеющее к ярко выраженному примитиву.


Собирание образцов для создания произведения не было характерной особенностью только иконописных или живописных мастерских и заведений. Известно, что при музее Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге в 1890 году специально была организована библиотека образцов для создания новых росписей на фарфоре. О пополнении библиотеки и музея Императорских заводов заботился лично император Александр III: «…в 1887 г. по Высочайшему повелению были переданы заводу 10 изображений святых и двунадесятых праздников иконописца Чирикова, предназначенных для помещения на представляемых ежегодно ко дню св. Пасхи фарфоровых яйцах». В числе печатных тиражных образцов в библиотеке были западноевропейские и русские гравюры и литографии, листы с гравюрами из Библии Пискатора «Theatrum Biblicum… Nicolaum Johannis Piscatorem. Anno 1674», Лорана Карса (Laurent Cars; 1699–1771), Филиппа Андреаса Килиана (Philipp Andreas Kilian; 1714–1759), Мануэля Сальвадора Кармона (Manuel Salvador Carmona; 1730–1807), Ромейна де Хооге (Romeyn de Hooghe; 1645–1708), Леонтия Бунина (ум. после 1714), литографии В. Ф. Тимма (1820–1895), репродукции картин из Галереи Императорского Эрмитажа, копии картин европейских художников, храмовых росписей и икон, в том числе мозаичных образов по эскизам С. А. Живаго (1805–1863) для Исаакиевского собора Санкт-Петербурга.
Подобный перечень мало чем отличался от собраний иконописных образцов. В середине — второй половине XIX века он пополнился иллюстрациями из различных изданий Библии для детей и взрослых, начиная от «Ветхого Завета в картинах» издания Ф. Прянишникова и А. Сапожникова (СПб.: Типография Э. Пращ, 1846) до «Библии в картинах знаменитых мастеров» в 2 частях, издание А. С. Суворина (1901–1902). Среди них были известные иллюминированные Библии Шнорра и Доре. Библия Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда (Die Bibel in Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld. Pracht-Ausgabe. Leipzig: Wigand, 1860) выдержала в России несколько изданий: «Священно-библейская история Ветхого и Нового Завета в лицах. Рисунки Юлия Шнорра» (СПб.: Издание В. Е. Генкеля, 1866) и «Священно-библейская история Ветхого и Нового завета. Библия в лицах. Двести сорок изображений с рисунков профессора Юлия Шнорра», текст вступления священника Константина Стратилатова (изд. 3‑е: СПб., 1873 и др.). Библия в гравюрах Гюстава Доре («La Grande Bible de Tours», 1866) вышла в издательстве М. О. Вольфа в 1876–1878 годах.
В XIX веке собирательство образцов вышло за рамки профессиональной необходимости и постепенно стало приобретать черты репликартии — коллекционирования репродукций произведений искусства в любом виде. Известно, что владелец иконостасного заведения М. Ф. Юрьев в городе Козлове Тамбовской губернии (мастерская существовала с 1857 года) «…страстно собирал всевозможные пособия по живописи, гравюры, эстампы и проч. Ни одно иконостасное заведение, не исключая даже московских, не имело в то время такого огромного выбора рисунков. В это собрание рисунков было вложено целое состояние. Все, что только выходило замечательного в России и отчасти за границей, немедленно приобреталось». В подобные собрания образцов входили гравюры, литографии и репродукции мастеров итальянского и северного Возрождения — Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Лукаса Кранаха, Гвидо Рени, Карло Дольчи и других художников.
В основе иконографии образа «Архистратиг Михаил, побивающий диавола» лежит произведение итальянского художника эпохи барокко Гвидо Рени (Guido Reni; 1575–1642) «Архангел Михаил попирает сатану» (1635, Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе, Рим), с которого были сделаны многочисленные гравюры — например, швейцарцем Иоганном Якобом Фреем Старшим (J. J. Frey; 1861–1752) в 1734 году и итальянцем Джованни Фоло (Giovanni Folo; 1764–1836) после 1780 года. Они разошлись по всей Европе в качестве образцов для копирования и оказались в том числе в России. Живописец не стремился с точностью воспроизвести гравюрный образец и по-своему интерпретировал изображение. В отличие от первоисточника, где сражение происходит на скалистых уступах, художник переносит действие в воздушное пространство над адом, языки пламени которого снизу словно опаляют жаром поверженную фигуру врага рода человеческого. Здесь диавол практически утратил свою антропоморфность, превратившись в черное чудовище с красными глазами и ушами, козлиной бородкой, острыми когтистыми лапами и уродливо изогнутым крылом (очевидно, второе сливается с его фигурой в центре). Архангел Михаил также не избежал изменений, приобретя облик, более понятный в традициях русской барочной культуры. Облачение стало строже, ушли странные и ненужные полосы на рукавах-фонариках и по низу туники, осталась только двойная лента перевязи. Панцирь мускулата теперь не подчеркивает рельеф тела, а плотно его облегает. Вместо римских сапог-калигул на ногах привычные ноговицы. Голову покрывает барочный шлем с плюмажем, место европейского меча с S-образной крестовиной занял огненный меч с крестообразной рукоятью. Крылья из широких и пышных орлиных превратились в легко узнаваемые бело-черные крылья, как у аиста (ил. 39–41).
Живописец, имевший провинциальное художественное образование, которое четко прослеживается в уверенных мазках и светотеневой моделировке доличного, в полной мере не смог справиться со сложными ракурсами и анатомией человеческого тела, которые более примитивны и диссонируют с мастерским изображением тканей. Рельефный орнамент (вертикальная волнистая гребенка и вертикальный волнистый мазок поверх поперечной гребенки), выполненный по полужидкому окрашенному левкасу, характерен для икон приенисейского края XVIII–XIX веков.
В России существовало несколько изводов изображения Божией Матери, где она касается рукой ступни или пяты Младенца, как на иконе «Богоматерь с Младенцем». Возможно, такое решение ассоциировалось с 15‑м стихом 3‑й главы Книги Бытия о семени жены, которое поразит искусителя в голову, и искусителе, жалящем в пяту рожденного женою. Именно на Христе исполнилось обетование Эдемское, хранимое в роду Авраама: семя змея жалило в пяту, Христос претерпел Страсти, был распят и воскрес, попрал врата ада и тем поразил искусителя в голову. Христос — Тот, Кто есть семя Жены, сокрушивший древнего змея, победитель смерти.
Икона Божией Матери выполнена в стиле провинциального рококо с асимметричным орнаментом. Личнóе и рельефный левкасный декор на полях характерны для произведений иконописцев середины XVIII века на территории Левобережья Днепра, от Черниговской до Полтавской губернии, точнее, Сумского уезда Полтавской губернии. Образцом для иконографии послужила гравюра «Святая Дева и младенец Иисус» Жана Луи Рулле (Jean Louis Roullet; 1645–1699), французского гравера, которая выполнена в Риме после 1673 года с живописного оригинала Аннибале Карраччи (Annibale Carracci; 1560–1609) «Мадонна с Младенцем» второй половины XVI века (ил. 42, 43).


По европейской гравюре также была написана икона «Плач Богородицы над терновым венцом», протографом которой являлась картина итальянского художника Джачинто Ботти (Giacinto Botti; 1603–1679) «Магдалина скорбящая» или «Плач Марии Магдалины» (середина XVII века, частное собрание). И. П. Боровиков, опубликовавший рассматриваемую икону, отметил: «Большинство изображений Марии в западном искусстве представляют её в момент покаяния, проливающей слёзы над своим греховным прошлым… Тем реже и интереснее вариант изображения, подобный представленному — здесь Мария сокрушается не над своими грехами, а над страданиями Иисуса». Живописец обладал академическими навыками, благодаря которым он передал молочное свечение кожи, изящество руки, припухшие веки выплаканных глаз. Однако ему не совсем удался сложный ракурс головы, показанной одновременно в трехчетвертном повороте и наклоне, поэтому лик несколько скошен слева, подбородок заострился, волосы стали плотно облегать голову, ассоциируясь с темным скорбным платом. «Крайняя экспрессия — надрывная мимика, ручьи слёз — выдают некоторую наивность кисти подражателя. Как часто бывает с восточноевропейским провинциальным искусством, попытка усилить эмоциональный накал образа придаёт ему псевдоархаические черты, так что икона вызывает теперь далёкие ассоциации с северным ренессансом и даже готикой» (ил. 44, 45).
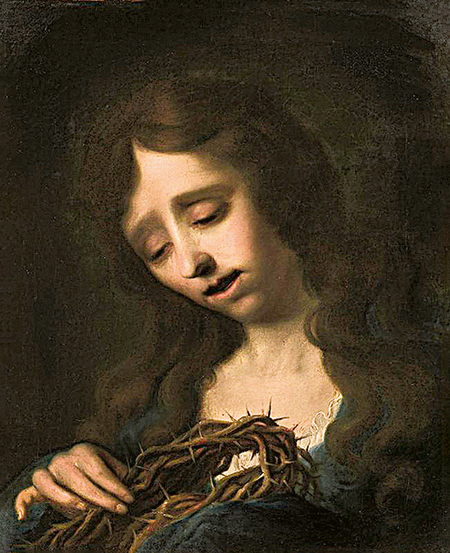

Мастер преобразует живописный образ в иконный, выполняя его не на холсте, а на традиционной залевкашенной иконной доске. Нимб — лучистое свечение вокруг головы — и теонимограмма не оставляют сомнений, что теперь здесь представлена Пресвятая Богородица, скорбящая о Сыне. Для русской традиции более характерно изображение с терновым венцом именно Богоматери, как, например, на хромолитографии «Божия Матерь Скорбящая» (хромолитография А. Стрельцова в Москве, 1884). Поэтому копии картины Джачинто Ботти, выполненные в России в XVIII–XIX столетиях, были дополнены теонимограммой Пресвятой Богородицы «МР ѲУ» и, соответственно, приобрели новое название «Плач Богородицы над терновым венцом» («Богородица оплакивает терновый венец», «Божия Матерь Скорбящая»). Гравированный образец получил широкое распространение и Европе, и в России. До настоящего времени сохранились выполненные на его основе иконы в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка» (Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, № 41391662), в ЦАК МДА, а также в Национальном музее Словении.
Об изначальном использовании графического образца в качестве протографа свидетельствуют сохранившиеся копии, не связанные друг с другом ни стилистически, ни географически. Стилистика иконы «Бог Отец, оплакивающий Сына (Святая Троица с мертвым Христом)» (ил. 46) отсылает к произведениям итальянского барокко XVII века. На гравюрный характер «посредника» между картиной и иконой указывает барочное обрамление: внизу профилированная рама с акантовым орнаментом в центре, вверху — гирлянда из аканта, образующая в верхних углах два симметричных медальона, в которых находятся аллегорические композиции. Слева — пеликан, кормящий птенцов своей плотью, что обозначает жертвенность Христа, справа — лежащий на столе гранат, зерна которого символизируют капли крови Спасителя. Изображения сопровождаются пояснительными цитатами на бандельверках из Евангелия от Иоанна (Ин. 3, 16), Послания апостола Павла к Римлянам (Рим. 8, 32), Книги пророка Исаии (Ис. 53, 5).
Подобное включение в композицию символических изображений заставляет вспомнить популярный в России с начала XVIII века сборник «Символы и эмблемата» (Амстердам, 1705; переиздания — 1719, 1788), который был составлен Яном Тессингом и Илией Копиевским по указу Петра I. Он включал в себя 840 гравированных рисунков эмблем с поясняющими надписями на девяти языках, в том числе на русском, и определил постоянный эмблематический и символический ряд в русской живописи и декоративно-прикладном искусстве и геральдике. В переиздании Нестора Максимовича Амбодика «Избранные емвлемы и символы» (СПб., 1811) к 840 гравированным изображениям были добавлены объяснения, иконологические описания и краткие толкования изображений.

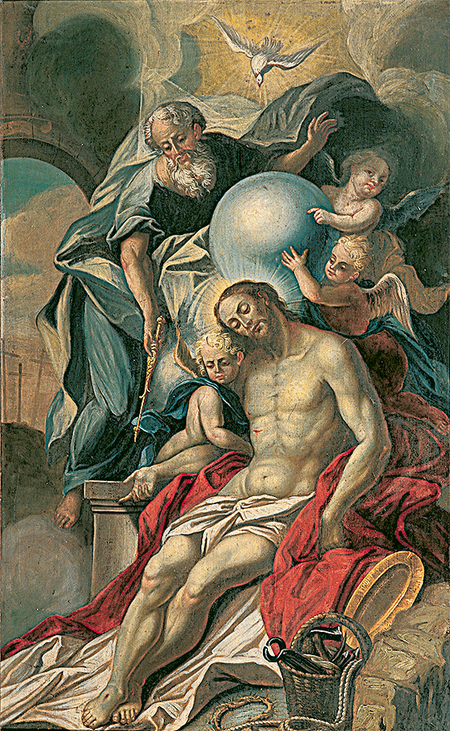
О существовании единого гравюрного образца свидетельствует картина неизвестного художника «Святая Троица», написанная около 1750 года и находящаяся в венской Галерее Бельведер, которая имеет аналогичную иконографию и отличается отсутствием барочного обрамления и аллегорий, а также более проработанными деталями, в том числе пейзажем с Голгофой. (ил. 47)
Графический протограф по картине европейского художника, легший в основу образа второй половины XIX века «Распятие Христово с разбойниками и предстоящими», бытовал в России еще в XVIII веке. Именно он стал образцом для аналогичной иконы конца XVIII — начала XIX века «Распятие Господне» кисти Якова Иванова (КБМЗ), а также для образа работы холуйских иконописцев середины XIX века из частного собрания (ил. 48–50).
Гравированные или литографированные образцы приобретались в виде отдельных печатных листов; иногда их вырывали «из иллюстрированных изданий и журналов „Старые годы“, „Аполлон“ и „Золотое руно“». Образцами могли служить и иллюстрации европейских изданий по искусству. В 1861 году В. П. Безобразов во время своего путешествия отмечал, что в Палехе в мастерской иконописца Сафонова (Софонова) «можно найти систематические коллекции картин разных стилей и собрание классических иностранных сочинений по части живописи». Например, гравюра № 16 французского гравера Никола де Лармессена IV (Nicolas de Larmessin IV; 1684–1753/1755) по оригиналу Рафаэля Санти «Святой Георгий и дракон» (1505) из книги «Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux desseins qui sont en France: dans le Cabinet du roy, dans celuy de Monseigneur le duc d’Orléans, & dans d’autres cabinets; divisé suivant les différentes écoles; avec un abrégé de la vie des peintres, & une description historique de chaque tableau by Crozat, Joseph Antoine, marquis de Tugny», vol. 1–2 (Paris, 1729, 1742, 1763) послужила образцом для иконы «Великомученик Георгий Победоносец (Чудо святого Георгия о змие)». Иконописец, максимально упростив пейзаж и убрав убегающую девушку, сосредоточил все свое внимание на фигурах всадника, коня и дракона. В итоге всадник заметно потерял в росте, голова коня перестала подчиняться законам линейной перспективы, однако все компенсировала экспрессия образа за счет темных холодных контрастов на фоне полупрозрачного осеннего неба (ил. 51, 52).


Произведение флорентийского мастера Карло Дольчи (Carlo Dolci; 1616–1686) «Христос благословляет хлеб и вино» («Christus, Brot und Wein segnend», около 1670, Дрезденская картинная галерея) неоднократно воспроизводили в гравюре XVIII–XIX веков. Гравюра на меди французского гравера Пьера Франсуа Базана (Pierre-François Basan; 1723–1797) «Христос благословляет хлеб и вино» (около 1750) вошла в книгу «Recueil d’Estampes d’après les plus célèbres Tableaux de la Galerie Royale de Dresde, I Volume. Contenant cinquante pieces avec une description de chaque tableau en francois et en italien» (Dresden, 1753). В 1811 году по оригиналу К. Дольчи выполнил гравюру мастер фламандского происхождения Энтони Кардон (Anthony Cardon; 1772–1813). В 1834 году издательство «Fisher, Son & Co. London» опубликовало гравюру англичанина Уильяма Энсома (William Ensom; 1796–1832); баварский художник и литограф Франц Сераф Ганфштенгль (Franz Seraph Hanfstaengl; 1804–1877) в 1835 и 1840 годах выполнил литографии на мелованной бумаге. Наибольшее распространение получила литография из книги немецкого писателя Отто Александра Банка (Otto Alexander Banck) «Die Gallerien von München: eine Stahlstichsammlung der vorsüglichsten Gemälde der Königl. Pinakothek, der Herzogl. Leuchtenberg’schen und Schleissheimer Gallerien» (Dresden, 1856) (ил. 53).
Используя монохромный образец, иконописец создал новое изображение в цвете — икону «Христос Спаситель (Благословение хлеба и вина)». Живописец получил неплохое образование, что особенно ярко проявилось при работе над ликом Христа, многослойным, с тенями в три тона и синими рефлексами (лоб, переносица, под нижней губой). Сияние вокруг головы заменил традиционный нимб с девятичастным перекрестием. Также художник убрал такую деталь как дискос, тем самым максимально концентрируя внимание на жесте и лике Христа. Несколько вытянутое лицо Спасителя теперь лишено барочной миловидности оригинала Карло Дольчи, но при этом полно душевности, глубокой внутренней сосредоточенности и боговдохновенной молитвы (ил. 54).
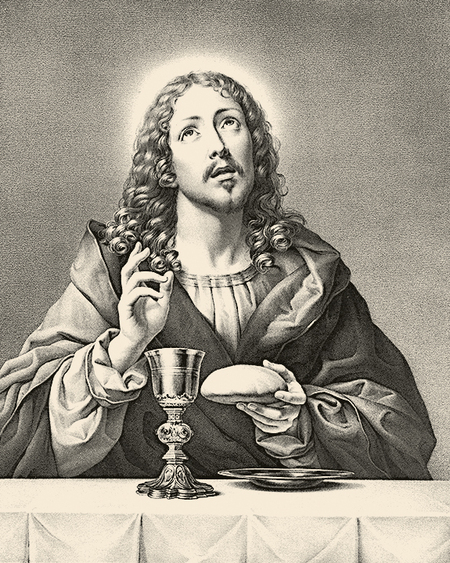
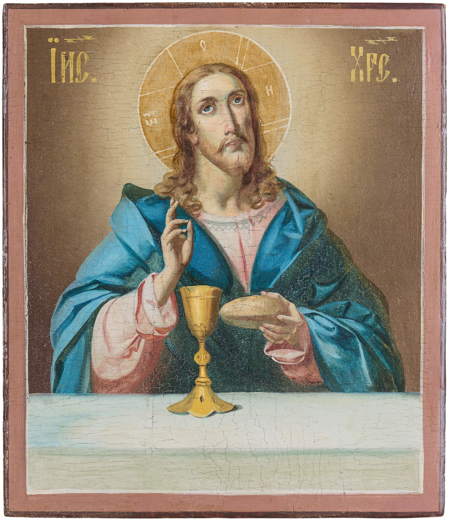
По наблюдению О. Ю. Тарасова, особый пласт образцов в собраниях иконописных мастерских составляли фотографии и репродукции западной религиозно-романтической живописи XIX века — Ф. Иттенбаха, И. Г. Зинкеля, А. Ноака, Э. фон Гебхарта, А. Шеффера, Э. Бендемана и К. Г. Пфаншмидта. К ним можно добавить Г. Ф. Гофмана, Б. Плокхорста, П. Тумана, К. Блоха, а также русских живописцев и иконописцев: А. А. Иванова, Ф. А. Бруни, Т. А. Неффа, А. Е. Егорова, Е. С. Сорокина, В. С. Крюкова, В. П. Верещагина, В. М. Васнецова, библейские циклы А. П. Сапожникова и А. А. Агина и др. Например, в мастерской Белоусовых в Палехе использовали фотографии икон Е. С. Сорокина и других академиков, «живопись которых… особо ценилась и старательно копировалась».
На выставке XII Археологического съезда в Харькове (1902), наравне с оригинальными произведениями, экспонировались подобные образцы, перечисленные в каталоге Отдела церковных древностей в рубрике «Собрание фотографических снимков с древних и новых, иностранных и русских изображений, называемых: „Воскресение Христово“». Любой желающий мог черпать из этих источников вдохновение при написании иконы. Среди них значились фотографии с произведений Г. Доре, Ю. Шнорра, И. Ф. Овербека, К. Блока, Б. Плокхорста, А. Фредерикса, Э. Дегера и Жака-Жозефа (Джеймса) Тиссо.
Копии с картин разных художников приходили на смену спискам с древних икон. Особенно на рубеже XIX–ХХ веков «…в погоне за более эффектным содержанием и выполнением икон… охотнее отводится место копиям с картин Васнецова, Маковскаго, Нестерова и др., а если и случится в иконостасе где такая икона (древняя или список с нее в подстаринном стиле. — И. З.), то ее прикрывают сплошною металлическою ризою…»
Некоторые из репродукций картин русских художников вошли в альбомы с описаниями самых значительных храмов Российской империи. В 1819 году издали книгу с литографиями Владимира Ивановича Погонкина «Образа, украшающие царские врата Главного Олтаря собора Казанския Божия Матери в Санктпетербурге. Писаны Советником Императорской Академии Художеств Вл. Боровиковским» (СПб., типография В. Плавильщикова) (ил. 55). В фотоальбом «Храм во имя Христа Спасителя в Москве» (1883) вошли фотографии росписей и икон кисти Н. В. Кошелева, В. П. Верещагина, Т. А. Неффа, Ф. А. Бронникова, Г. И. Семирадского, Е. С. Сорокина, выполненные Фотографией Его Императорского Величества «Шерер, Набгольц и К°» в Москве (ил. 56). В конце XIХ века появились издания «Собор святого великого князя Владимира в г. Киеве. Альбом фотографа Г. Лазовского» (Киев, 1897) (ил. 57) и «Собор св. Владимира в Киеве. Сооружение собора, внешний вид собора, отделка его» И. В. Александровского (Изд. 3‑е, дополненное, с рисунками. Киев, 1897) с воспроизведенными в них иконами и росписями В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, М. А. Врубеля, В. А. Котарбинского, П. А. Сведомского.
Значительную роль в популяризации картин и росписей Исаакиевского собора Санкт-Петербурга сыграл «Русский художественный листок» — журнал, издававшийся с 1851 по 1862 год живописцем, рисовальщиком и литографом Василием Федоровичем Тиммом. В 1858 году (№ 16–18, 27) В. Ф. Тимм опубликовал 25 изображений из серии «Исаакиевский собор: внешний вид, внутренность, наружные украшения и образа», среди которых была литография «Воскресение Христово» (л. 2) по живописному оригиналу Карла фон Штейбена (1788–1880). Благодаря этому композиция Штейбена, «почетного вольного общника» Императорской Академии художеств, получила широкую известность и неоднократно воспроизводилась от икон до пасхальных фарфоровых яиц (ил. 58, 59). В 1862 году в № 24 вошла репродукция картины А. А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине», в № 27 — «Моление о чаше» с картины Ф. А. Бруни.
Особую группу составляли образцы орнамента, среди которых особой любовью пользовались следующие издания: «Сборник византийских и древне-русских орнаментов, собранных и рисованных князем Гр. Гр. Гагариным. 50 таблиц. Издан иждивением С.‑ Петербургского Центрального Училища технического рисования Барона Штиглица» (СПб.: Хромолитография Штадлер и Паттинот, 1887); «Орнаменты на памятниках древне-русского искусства», вып. 1–3, издание Н. П. Сырейщикова и Д. К. Тренева (М.: Типо-литография И. Н. Кушнерев и К°, 1904, 1910, 1916); «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению Государя императора Николая I. Рисованы ак[адемиком] Ф. Солнцевым. Отделение I–V» (М.: Типография Александра Семена, хромолитография Ф. Дрегера, 1846–1853); «Русский орнамент в старинных образцах ткани, эмаль, резьба из дерева и кости, обронное, чеканное и литейное дело. Издание общества поощрения художников» Н. Е. Симакова (СПб., 1882); «История русского орнамента. Элементарная часть. Издание Художественно-Промышленного Музеума при Строгановском Училище технического рисования» (М., 1868) и др. Иногда листы с орнаментами вырывали из немецких журналов вроде «Dekorative Vorbilder» и из серий «Ornamentenschatz. Vorlage» и «Vorlagen für Ornament-malerei. Motive aller Stylarten von der Antike bis zur neuesten Zeit», копировали орнамент из литографий светского характера, а также использовали фрагменты рисунков для счетной вышивки.
С начала XIX века особую популярность приобрел стилизованный акантовый орнамент в виде симметричных угловых виньеток, с четырех сторон окаймлявших овальное изображение в центре. Подобный декор воспроизводил резную багетовую раму, обрамлявшую овальные или круглые изображения. Декор был столь популярен в первой половине XIX века, что его повторяли не только на литографиях и офортах светского характера — как на картине Н. А. Кошелева «Продавец образков» (1866, ГРМ), — но также на схемах для счетной вышивки издательства L. W. Wittich, Берлин, и даже на иконах. Свидетельством этой моды служит холуйская икона «Святитель Николай Чудотворец». Аналогичный вариант обрамления представлен на иконе «Святитель Николай Чудотворец» первой половины XIX века (собрание И. Л. Бусевой-Давыдовой) (ил. 60–64).
В начале ХХ века собрания иконных образцов, кроме фотографий и оригинальных икон, предназначенных для копирования, пополнились иконами на жести. В иконописной мастерской Брянского Петропавловского женского монастыря имелось: «Святых икон — 7. Иконы на жести для оригиналов — 7. Икон на досках для оригиналов — 5. Большая картина „Благословение детей“ — 1. <…> 7. Фотографические оригиналы — 74. Картин для оригиналов». Анализируя состав подобных собраний иконописных мастерских в XIX веке, можно заметить, что ведущую роль играли печатные образцы — гравюра, офорт, литография, хромолитография. Любой мог приобрести офорты с воспроизведениями европейских картин, литографии с образами Божией Матери, сценами из жизни праведников — например, преподобного Серафима Саровского, отпечатанные в многочисленных московских и петербургских хромо-, металло- и литографиях, или приобрести печатные листы типографии Соловецкого монастыря, которые запечатлены на картине Н. А. Кошелева (1840–1918) «Продавец образков» (1866, ГРМ) (ил. 65). В силу своей тиражности и дешевизны подобные образцы для икон стали самыми доступными источниками иконографии.
В XIX — начале ХХ века развивающаяся печатная промышленность в России стимулировала появление, распространение и многочисленные однотипные повторения уже известных или новых образцов иконографии.
В собрании Виктора Бондаренко представлено несколько икон, в основе которых лежит тиражная печатная графика второй половины XIX века. Одна из них — «Богоматерь Умиление», изображение Девы Марии с крестообразно сложенными на груди руками (причастие Духа Святого) и возведенными вверх глазами — восходит к барочным произведениям круга художника Гвидо Рени. В частности, один из идентичных вариантов, отличающийся только наклоном головы Богоматери влево, — картина Гвидо Рени «Дева в созерцании» («Vergine in contemplazione», собрание Fondantico di Tiziana Sassoli, Болонья). Итальянский гравер Доменико Кунего (Domenico Cunego; 1727–1803) в 1776 году выполнил с нее резцовую гравюру «Mater Amabilis» («Матерь Любезная», «Матерь Умиления», Музей Метрополитен, Нью-Йорк). В России, начиная с 1860‑х годов, появились лито- и хромолитографии с оплечным вариантом данного извода, получившие название «Божия Матерь» (издатели — литография А. П. Руднева, Москва, 1863; литография Е. Я. Яковлева, Москва, 1860‑е; литография И. А. Голышева, Мстёра, 1874; литография П. А. Глушкова, Москва, 1876; хромолитография И. Д. Сытина и К°, Москва, 1886).
Для написания данной иконы в качестве образца была взята подобная литография «Божия Матерь», дозволенная Московской духовной цензурой 9 июня 1869 года и изданная в литографии Ефима Яковлева в Москве на 2‑й Мещанской улице в том же году. Иконное изображение с точностью воспроизводит детали плата, лика, складки риз и даже двойную окантовку нимба, упростилась только ткань мафория — вышивка отсутствует, он стал традиционного однотонного вишневого цвета (ил. 66, 67).
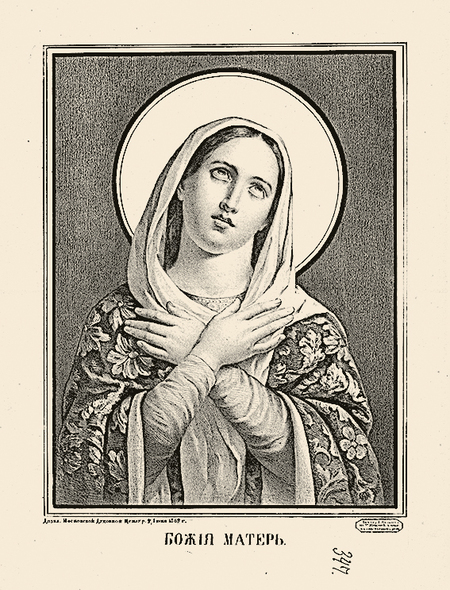

Икона «Явление Богоматери преподобному Серафиму Саровскому в день Благовещения 1831 года» написана по литографии, выполненной в мастерской Дивеевского монастыря. Во второй половине XIX века появились различные варианты этой иконографии в иконописи и печатной графике, иллюстрировавшей жизнь и подвиги преподобного Серафима. Печатные оригиналы стали копировать на иконах, которые могли быть краткого или развернутого извода, отличаться расположением святых жен и преподобного Серафима и окружающими атрибутами. На иконе из собрания Виктора Бондаренко представлен полный вариант извода со всеми персонажами и оригинально построенной композицией. Происхождение образа из иконописной мастерской Андреевского скита на Афоне подтверждается штампами на двух идентичных по манере письма и иконографии иконах из частных собраний (ил. 68–70).
В иконе «Богоматерь Иверская, с пророчицей Анной и мученицей Софией в клеймах» иконописец точно воспроизвел особенности литографий 1865–1883 годов — определенный типаж чуть полноватой фигуры Божией Матери, графичность, контурность, локальность и насыщенность цветов, ограниченность цветовой гаммы и моделировку за счет более темного контрастного тона, а также характерные для печатных образцов изображения драгоценных камней.
Несколько выпадают из общего строя фигуры святых в медальонах, очевидно, соименных заказчицам, которых не было в предоставленном иконописцу печатном протографе (ил. 71).
Икона «Благовещение Богородицы» выполнена в традициях академической живописи, хотя крупный мазок щетинной кистью создает впечатление легкой импрессионистичности образа. Икона написана по хромолитографии 1888 года «Товарищества И. Д. Сытина и К°» в Москве (переиздание — хромолитография Киево-Печерской лавры, 1908). Изменения коснулись положения рук архангела, крыльев, цветка в руке и декора хитона, упростился фон (ил. 72, 73). Пожалуй, самому массовому и повсеместному копированию подверглись хромолитографии издания Е. И. Фесенко в Одессе.


Помимо «Товарищества И. Д. Сытина и К°», значительную роль в распространении образцов иконографии сыграли литография И. А. Голышева в Мстёре и особенно литография Е. И. Фесенко в Одессе. И. А. Голышев в 1858 году открыл собственное литографическое заведение в Мстёре, откуда в 1860‑х годах выходило до 530 тысяч экземпляров литографий или «народных картинок» в год. Рисовальщики набирались из иконописцев сел Мстёры и Холуя, первоначально их обучал сам И. А. Голышев, вместе с ними занимаясь «рисовкою на камне». Значительную долю составляли «праздники» — литографии на писчей бумаге только духовного содержания, и «простовики» — самые простые картинки духовного и светского содержания. Стоимость первых составляла от 6,5 до 7 рублей, вторых — от 5,5 до 6 рублей за тысячу листов в расчете на оптовый сбыт.


Кроме дешевых листов, печатались и дорогие хромолитографии по 200 экземпляров каждая, предназначенные в дар Владимирскому губернскому статистическому комитету в качестве приложения к десяти выпускам «Трудов Комитета». Помимо пейзажных видов местностей, строений и древних предметов, можно отметить: «13. Оттиск с старинной деревянной печатной доски изображающей икону Знамения Божией Матери, с доски из собрания И. Голышова. <…> 15. Такой же оттиск с изображением Св. Евангелиста Луки из его же собрания. <…> 17. Изображение 12 лихорадок, которое находилось в с. Холуе, снято И. Голышовым. 18. Иконы 12 лихорадок, которые пишутся для народа, рис. его же». Пожалуй, самому массовому и повсеместному копированию подверглись хромолитографии издания Е. И. Фесенко в Одессе (ил. 74–79).
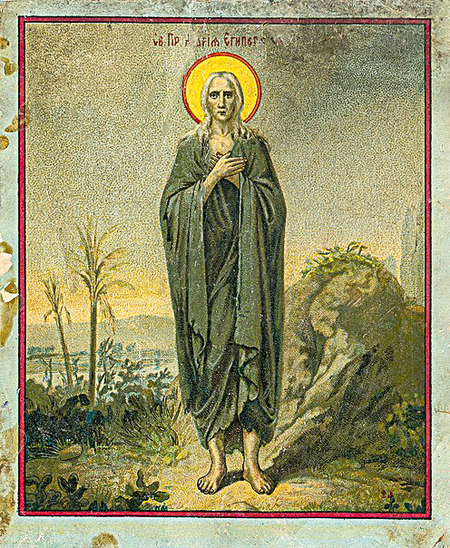



Особой популярностью пользовались полихромные изображения по росписям храма Христа Спасителя в Москве с оригиналов В. П. Верещагина (1835–1899), Ф. А. Бронникова (1827–1902) и других, и «Моление о чаше». Казалось бы, массовое распространение иконографии с Христом в Гефсиманском саду началось в России с 1862 года, когда В. Ф. Тимм в «Русском художественном листке» напечатал литографии по картинам профессора Академии художеств Ф. А. Бруни (1799–1875), в том числе «Моление о чаше». Однако настоящий бум в отношении этого сюжета пришелся на конец XIX века. В 1886 году немецкий художник историко-религиозного жанра Генрих Фердинанд Гофман (Heinrich Ferdinand Hofmann; 1824–1911) написал картину «Моление о чаше» («Christ in Gethsemane» — «Христос в Гефсимании», Riverside Church, Нью-Йорк). Одно из ее печатных воспроизведений в 1895 году скопировал с некоторыми изменениями второго плана и издал Е. И. Фесенко. Печатная икона с пометкой «Собственность издания хромолитографии Фесенко» прошла цензуру 8 февраля 1895 года в Санкт-Петербургском цензурном комитете, цензор архимандрит Василий (В. В. Лузин) (ил. 83, 84).
Благодаря большому тиражу это изображение стали повторять повсеместно — от Архангельской губернии до Палеха и Борисовки. То же касается икон, опубликованных Е. И. Фесенко и повторявших росписи храма Христа Спасителя. При написании иконы живописец масштабировал изображение и перенес его на залевкашенную доску, несколько видоизменив пейзаж, складки одежды и перстосложение. Он упростил первоначальный вариант, что компенсировалось яркими сочными красками и уходом от красного цвета.
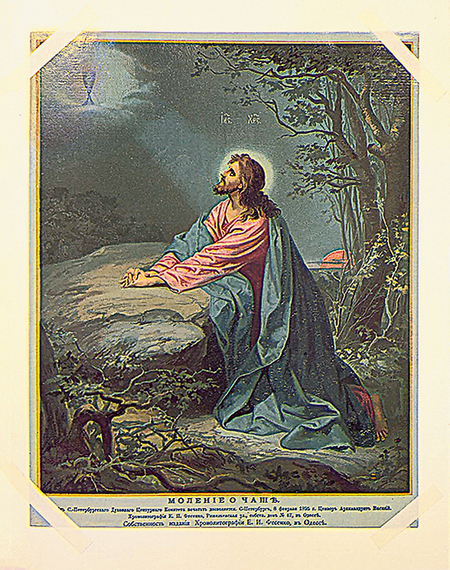

Сравнивая оригинал и копии, можно заметить, что «художники часто избегали прямого копирования и видоизменяли подлинник», фон, детали, цветовую гамму. И не всегда причиной являлся низкий уровень мастерства копииста. В какой-то степени это было связано с авторскими правами издателя на печатное изображение и с желанием избежать проблем судебного характера, так как художественная собственность была ограждена законом: в частности, седьмая глава Цензурного устава называлась «О праве собственности на произведения наук, словесности, художеств и искусств». Бороться с заимствованиями начал еще в 1860‑х годах В. Ф. Тимм. В связи с тем, что «многие лица, особенно в Москве, постоянно заимствуют, для периодических и отдельных изданий, помещаемые в Художественном Листке портреты и рисунки, без указания источника и без дозволения его, Тимма», он был вынужден подать ходатайство на Высочайшее имя, согласно которому лица, желающие заимствовать изображения из его издания, должны были делать это только «с дозволения самого издателя Художественного Листка». Просьба издателя была удовлетворена, и, «…принимая во внимание, что художественная собственность вполне ограждена у нас особыми правилами… и что охранение сих прав предоставлено полицейским и судебным местам, Г. Министр Внутренних Дел о вышеозначенном Высочайшем повелении, сообщенном для сведения и ценсурному ведомству, уведомил гг. начальников губерний».
Издавая свои печатные иконы, Е. И. Фесенко пошел по другому пути. Воспроизводя, например, иконы и росписи из храма Христа Спасителя, он не указывал, по чьему оригиналу они выполнены. Вместо этого в первичную иконографию вносились некоторые изменения, и издательство закрепляло за собой права на вновь созданное изображение, ставя на нижнем поле хромолитографии пометку: «Собственность издания. Хромолитографии Е. И. Фесенко в Одессе». Если печать изображения выполнялась по заказу третьего лица, то на хромолитографии фиксировались права заказчика. Так, на бумажной иконе «Истинное изображение иконы Божией Матери Козельщанския» значится: «Издание принадлежит Рождество-Богородичному Козельщанскому женскому монастырю. Хромо-Лит. Е. И. Фесенко в Одессе». То же делали и другие издатели, нередко после обозначения типографии ставя слово «Собственность».
Наличие единых полихромных полиграфических образцов в сочетании с общепринятой академической манерой живописи привело к возникновению еще одного феномена в иконописи Синодального периода — тождественность и однотипность популярных изображений на всем пространстве Российской империи, не позволяющие определить географическое происхождение той или иной иконы, написанной по подобным образцам. Тем не менее не стоит думать, что традиционные иконописные (икона, прорись, подлинник и др.) и печатные образцы (гравюра, литография и т. п.) полностью вытеснили все остальные виды и формы источников при написании икон. В качестве протографа могли использовать, например, паломнические евлогии, а непосредственное желание и замысел заказчика подвигали иконописцев к созданию неординарных образов.


К числу первых относятся иконы «Богоявление Господне (Крещение Христово)» и «Иерусалимия (Проскинитарий)». Образ Богоявления выполнен на сосновой доске, которая, судя по неаккуратной обработке двуручной пилой, изначально не предполагалась под иконный образ. Шпонки, вырезанные из заболони толстого и кривого сука хвойного дерева с кавернами, заполненными живицей, прибили уже после того, как доски иконного щита разошлись и искривились. Несмотря на наивный стиль, образ создал человек, имевший живописные навыки, так как предварительно был сделан набросок карандашом и затем по подмалевку написано изображение. Яркие цвета, их локальность, присутствие в цветовой гамме одновременно насыщенных зеленых, синих, красных и кирпично-красных оттенков вместе с особенностями древесины позволяют определить данную икону как произведение провинциального мастера Русского Севера конца XIX — начала ХХ века, которое находилось в праздничном ряду иконостаса небольшого сельского храма (ил. 85, 86).
Икона обладает рядом отличительных иконографических особенностей — крестообразно сложенные руки Христа, склоненная влево голова, положение рук Иоанна Предтечи, слоистые берега и кущи пышных дерев и кустарников, ангелы с платами в руках, а также своеобразное изображение Святого Духа в виде крестообразной птицы, летящей вертикально вниз и больше напоминающей ворона. Подобные признаки характерны для произведений палестинских мастеров XIX века — как в иконе, так и в резьбе по камню. Возможно предположить, что принесенная из Святой Земли святыня была творчески преобразована русским мастером в икону и помещена в праздничный ряд иконостаса местного храма.
Протографом-образцом для «Иерусалимии» выступила паломническая евлогия, карта-икона (проскинитарий) для паломника в Святую Землю, сочетающая в себе топографическое руководство и молитвенный образ. «Иерусалимия» первоначально была написана на холсте, который неоднократно складывали, позже его наклеили на фигурную деревянную основу (ил. 87).
От прямоугольного холста сохранилась центральная часть. В верхнем регистре находится изображение Страшного суда — вверху Христос как Праведный Судия в окружении апостолов, под ними архангел Михаил и душа человеческая, справа — геенна огненная и повесившийся Иуда, слева апостол Петр отворяет ключами двери рая. Справа и слева от Страшного суда сохранились клейма «Бегство в Египет» и «Воскрешение Лазаря», а также две пещеры. В левой — редкий извод с усопшей преподобной Марией Египетской, рядом с которой лежит лев, вырывший ей могилу. В правой — спящий пророк Варух. В нижнем регистре — условная топография Иерусалима и храма Гроба Господня, в изображение которого вошли: Кафоликон с Камнем миропомазания, Кувуклия с воскресшим Христом над ней, «Патриаршие покои»; «Не тронь Меня» (придел равноапостольной Марии Магдалины), Голгофа, «Христос в багрянице (Ведение Христа на распятие)», «Вход в храм Гроба Господня», «Сретение Владыки» (встреча архиерея перед дверями храма Гроба Господня), «Великая суббота». «Равноапостольные царь Константин и царица Елена» и «Жертвоприношение праведного праотца Авраама» изображены на парусах по сторонам купола Кафоликона. Клеймо «Искушение Адама» справа внизу, внутри иерусалимских стен, под ним иконописец изобразил орудия Страстей Христовых и оставил свой автограф.
Уникальность памятника состоит не только в том, что в качестве протографа была использована палестинская иерусалимия. Иконописец Михайло, написавший свое произведение по обету (обещанию) в 1742 году по более раннему палестинскому образцу, изменил порядок и расположение сюжетных клейм, тем самым создав собственную трактовку данной иконографии. В настоящий момент этот памятник является самой ранней из датированных иерусалимий в российских собраниях. В число памятников, в которых явственно присутствует замысел заказчика, можно включить так называемые иконы в иконе. Образ «Семь отроков Эфесских, великомученица Екатерина и неизвестный преподобный в предстоянии иконе Богоматери с Младенцем» представляет собой визуальное воплощение темы «како надлежит молиться родителем о чадех своих».
К Эфесским отрокам обращались с молитвой о добром здравии, исцелении и ниспослании здорового сна беспокойным младенцам, родители которых, вероятно, представлены соименными святыми по сторонам пещеры в молитвенном предстоянии семейному образу Пресвятой Богородицы (ил. 88).
События жизни заказчика подвигли его заказать образ, уникальная иконография которого построена по правилам классической геральдики — «Богоматерь Иверская с предстоящими святителем Спиридоном Тримифунтским и ангелом Господним». Прямоугольный щит в центре содержит изображение Иверской иконы Божией Матери, сверху на нем — красная мантия, завязанная на углах шнуром, нашлемник выполнен в виде головки херувима; мантию венчает малая императорская корона. В качестве щитодержателей с двух сторон выступают святитель Спиридон Тримифунтский и, согласно надписи, «Святой Ангел Господний». Место девизной ленты внизу занимают строки тропаря Богородице, глас 4‑й (ил. 89). Дата в левом верхнем клейме «1856» носит событийный характер; личный герб в правом верхнем углу (практически не сохранился) указывает на дворянский статус заказчика. Все вместе вкупе со строками тропаря позволяет предположить, что икона была написана в память чудесного спасения по молитве перед московской Иверской иконой дворянского сына Спиридона в 1856 году, возможно, в последние дни перед окончанием Крымской войны.
Икона Божией Матери в центре является изображением московского чтимого образа из Иверской часовни у Воскресенских ворот.
Подобной редкой иконографией обладает икона «Ангел-хранитель», выполненная по индивидуальному заказу. Образ ангела-хранителя, ведущего за руку младенца или отрока, был характерен для западноевропейского искусства. В данном случае ангел заботливо держит на руках спеленатого младенца, который олицетворяет христианскую душу, цветок розы символизирует чистоту души. Очевидно, что эта иконография представляет визуализацию строк 90-го псалма: «Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. <…> Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою» (Пс. 90, 2–4, 10–12).
Сочетание профессиональной выучки живописца и наивного провинциального изложения непривычного сюжета особенно проявилось в изображении младенца, способствуя особой проникновенности этого образа (ил. 90).
Взаимодействие разных тенденций в обыденной иконе Нового времени можно проследить на примере отдельных элементов композиции. Так, в древнерусской иконописи существовал определенный канон изображения лошади, который, наряду с несомненной условностью, обладал некоторыми натуралистичными чертами — например, в передаче ног и копыт животного и общего узнаваемого контура. Синодальная эпоха придала образу лошади еще большую условность, смешав плоскостность и «детскость» народного искусства, барочную экспрессивность и чрезмерность ракурсов и академическую правдоподобность объемов. Копирование, вначале западноевропейской печатной графики, а затем и произведений русских художников, позволило придать образу лошади в живописной иконе реалистичное звучание, более точно воспроизводить анатомию и подчеркнуть объемность мускулатуры, сохраняя при этом все ту же условность образа в целом.
Классическая академическая живопись, благодаря научному подходу к модели в академическом рисунке и приемам классицистического изображения (четкость форм, точность контура, строгость и ясность моделировки), привнесла в икону профессиональных живописцев анатомически выверенные образы животных. На протяжении XVIII–XIX веков изображение лошади в низовой иконе, подчиняясь общим законам смены художественных стилей, с одной стороны, сохранило приверженность иконописной традиции, с другой, прошло путь от натуралистичности барокко до естественности реализма.
В живописной любительской иконе с конными сюжетами можно выявить черты, присущие русскому «иппическому жанру» XVIII — первой половины XIX века, начало которому положили крепостные живописцы-самоучки. Особенностями таких «портретов» лошадей (не путать с конным портретом — всадник на коне) было отсутствие у художников профессионального академического образования, «…они с дилетантской точки зрения, как только могли и умели, старались по возможности точнее воспроизвести натуру, охарактеризовать все признаки лошадиной породы, добиваясь внешнего сходства. <…> Во всех произведениях можно отметить строгость в изображении фигур, определенный порядок их расположения, тщательную линейную и цветовую трактовку… с внешне схожим пропорционально-анатомическим строением» и с определенной долей объемности. Таков, например, знаменитый «Портрет арабского жеребца Сметанки — основателя породы орловских рысаков», возможно, написанный крепостным художником графа А. Г. Орлова-Чесменского Гаврилой Васильевым в конце XVIII века (ил. 91).
Несмотря на то, что крепостные художники не были знакомы с методами академического рисования и живописи, они «…в своих работах все же стремились достичь правильного пропорционального изображения лошади, пытались изобразить ее натурально, чтобы приблизиться к ощущению подлинного осязаемого мира. Композиционно увязав фигуру лошади с фоном, они тем самым желали достичь ощущения целостной зрительной законченности образа». По мнению И. В. Портновой, особым свойством этих живописных произведений является «буквализм, даже близость к цветной фотографии». Недостаток знания анатомии, пропорций и перспективы в любительской и примитивной иконе были заменены тщательностью, детализацией, ярким цветом и светотеневой моделировкой. В то же время народная и примитивная икона в значительной степени сохранила архаические черты в условности и схематичности передачи как анатомии и пропорций лошади, так и положения в пространстве и механики движения (ил. 92). В итоге к началу ХХ века в низовой иконе сосуществовали несколько вариантов изображения лошади: «народный», «барочный», восходивший к западноевропейским гравюрным образцам, и «академический», имевший в основе начальные принципы академического рисунка, которые между собой нередко смешивались.


Несомненно, что лошадь на иконе и лошадь на живописном полотне создавались по разным канонам, поскольку перед живописцем и иконописцем изначально стояли разные задачи, которые и сформировали различный подход к изображению животного. Если для портретов лошадей главным было показать экстерьер, то в иконе такое понятие отсутствует вообще. Живописец исходит из наличия конкретной натуры, у которой надо показать внешние признаки породы и особенности экстерьера. Иконописец не делал зарисовки с натуры, он во многом механически воспроизводил традицию, закрепленную в прориси. И условность лошади в иконе объясняется не только уровнем художественного образования, но и ее скромной ролью в сюжете. Тем не менее, без нее невозможны иллюстрации событий, связанных с жизнью и подвигами святых, причастность к которым наделяло лошадь особыми свойствами мифологического персонажа. Исследуя низовую икону Синодального периода, можно отметить ряд устойчивых признаков изображения лошадей, которые сохраняются во всех видах народной иконы и иконы для народа.
Порода и масть. В иконном пространстве обитает только две «породы» лошадей — небесные и земные. Коренное различие состоит в масти и наличии дополнительных элементов. У небесных коней признаком их особого служения является огненно-красная масть, которая редко, но встречается у лошадей святых воинов. Иногда огненность дополняется крыльями, у запряженных лошадей растущими из верхней части спины, у оседланных — из плеча передних ног над локтевым суставом, превращая их в подобие античных «коней-пегасов», посредников и проводников между горним и земным мирами. Такие кони уносят в небо колесницу с пророком Илией (ил. 93); на красном крылатом коне архангел Михаил возглавляет небесное воинство. Земные лошади в подавляющем большинстве имеют торжественный белый окрас, ассоциирующийся с чистотой и победой праведника. Если по сюжету вместе изображены две лошади, то парной к белой будет вороная (ил. 94), а на иконах покровителей домашнего скота вместе можно встретить лошадей не только белой, но и серой, рыжей, гнедой и вороной масти.
В зависимости от сюжета, лошадь на иконе могла быть изображена пасущейся (на иконах мучеников Флора и Лавра и т. п.), запряженной («Вознесение пророка Илии»), оседланной (у великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, мученика Трифона). Наиболее редко встречается лошадь падающая или поверженная, как в сюжетах, связанных с великомучеником Димитрием Солунским («Чудо о царе Калояне») (ил. 95).
Несмотря на, казалось бы, такое разнообразие в изображении лошади в низовой иконе, все они обладают рядом схожих устойчивых признаков, характеризующих: а) экстерьер, анатомию, пропорции; б) положение лошади в пространстве и механизм ее движения.
С точки зрения экстерьера, анатомии и пропорций изображение лошади носит обобщенно-условный характер. Ноги очень гибкие, почти гуттаперчевые, с намеком на суставы, но с обязательным выделением копыт — контурно или деталировкой в рисунке. При профильной постановке шея либо традиционно изогнута по-лебединому, с конически заостренной головой, либо она имеет мощную широкую форму, резко сужающуюся к маленькой голове. В любительской и народной иконе можно встретить и фантазийное крепление передних ног к туловищу, причем зачастую всадник оказывается значительно крупнее лошади, на которой сидит.
Особую сложность представляли ракурсы, заимствованные из европейской гравюры. В результате части тела лошади перекручивались под углом, несовместимым с анатомией и жизнью животного, повернутая к зрителю голова буквально вдавливалась в широкую корпулентную шею. Нередко у скачущих лошадей в «Огненном восхождении пророка Илии» передние ноги слишком вытянуты. Подобная диспропорция, связанная с особенностями визуального восприятия движущегося животного, была вполне привычна не только для иконы, но и для живописи, о чем в начале ХХ века писал князь Сергей Петрович Урусов: «Действительно, в природе, копыта передних ног скачущей карьером лошади не могут выходить за линию морды… и задние ноги черезчур широко расставлены, чего на большом алюре и быть не может» (ил. 96).


Положение лошади в пространстве напрямую связано с механикой ее движения, понимание которой пришло только в конце XIX века с изобретением хронофотографии. И даже великие художники не были застрахованы от искажений фигуры лошади в своих полотнах. В этом смысле крайне показателен анализ картины Рафаэля «Святой Георгий и дракон» (1505, Лувр) князя С. П. Урусова, который писал: «Каждый блик в этой картине говорит о гении Рафаэля, но сама лошадь и главное, ее поза, невозможны. Оставляя в стороне физиологические особенности сложения этой лошади, мы не можем забыть попрания всех законов механики, бросающихся в глаза в движениях белого коня. Лавры Рафаэля, разумеется, не давали покоя многим художником и лошадь, с широко разставленными четырьмя ногами, двумя на земле, двумя на воздухе, эта летающая или плавающая лошадь, сделалась прототипом множества изображений; мы узнаем ее на картинах Рубенса, Сальватор-Роза, Жален, Удри, Верне и до Жерико включительно».


Именно те самые «лавры» Рафаэля впечатлили автора иконы «Великомученик Георгий Победоносец (Чудо святого Георгия о змие)», который использовал уже упоминавшуюся гравюру Никола де Лармессена по оригиналу Рафаэля Санти и, не задумываясь, повторил ошибки великого мастера (ил. 97, 98).
Если выстроить в один ряд иконы из публикуемого собрания с изображением всадников, то можно с удивлением заметить, что, несмотря на различные иконописные или живописные, академические или барочные традиции, лошади находятся в том самом странном положении «с широко разставленными четырьмя ногами, двумя на земле, двумя на воздухе», то ли летящие, то ли плавающие, по словам князя С. П. Урусова. Оказалось, что с точки зрения механизма движения лошади самым распространенным для иконных лошадей является… галоп, переходящий в стадию прыжка, когда лошадь делает толчок, опираясь на две задние ноги (ил. 99).
Кони волхвов несутся галопом, и запряженные в огненную колесницу пророка Илии крылатые кони находятся в состоянии галопа, переходящего в карьер, причем в фазе полета или подвисания, когда они не касаются ногами земли. Конь под мучеником Трифоном, как правило, идет шагом, причем нередко иноходью — разновидностью аллюра, когда животное одновременно переставляет ноги по одной стороне. Несмотря на то, что изображенные лошади находятся в активном движении (галоп, иноходь, карьер, прыжок), оно таковым по своей сути не является, в нем нет действия или развития. Тем самым наряду с условностью возникает еще одно свойство лошади в пространстве низовой иконы — статичность движения (замершее или остановленное движение).
Спокойно стоящая лошадь более характерна для живописных произведений или книжной графики конца XIX — начала ХХ века и в иконе встречается довольно редко. Подобным примером служит образ «Великомученик Георгий Победоносец», где конь стоит неподвижно, в диагональном ракурсе, с опущенной головой, и взгляд зрителя на него падает сверху. Подобный ракурс не типичен для иконных изображений или «лошадиных портретов», ближе всего он находится к конному портрету, где главная роль отведена всаднику. Косвенным подтверждением служит фигура святого Георгия, увеличенная непропорционально по отношению к лошади: конь маленький, всадник очень крупный. Наиболее близким графическим образцом является одно из изданий гравюры Т. Чеймберза 1766 года «Святой Мартин делится плащом с нищим» (Thomas Chambers; 1724–1789) по оригиналу П. П. Рубенса (1620/1621, Виндзорский замок), который, в свою очередь, является вариативным изложением картины А. ван Дейка (около 1618, церковь Святого Мартина в Завенхеме, Бельгия). В то же время в статичности и диспропорции чувствуется влияние книжной графики, подобной той, что вошла в альбом Г.-Т. Паули «Этнографическое описание народов России» 1862 года (ил. 100, 101, 102).
Помимо внешней условности и внутренней статичности, лошадь в иконном пространстве обладает еще одним важным свойством. Цель светского лошадиного портрета — как можно реалистичнее показать признаки породы и особенности экстерьера, при этом на лошадь не возлагается никаких функций, кроме модельной демонстрации. В иконном пространстве лошадь лишена натуралистичности и реалистичности, однако она является живым и непосредственным участником происходящих событий, она живет внутри чуда, совершаемого святым (ил. 103, 104). Следовательно, лошадь награждается признаками некоего чудесного полусказочного существа, для которого характерны антропоморфность (человеческие глаза, написанные на одной линии) и эмоциональность (почти человеческая мимика (ил. 105, 106).
Таким образом, лошадь в иконном поле благодаря сочетанию условности изображения, статичности движения, антропоморфности и эмоциональности приобретает свойства символа, который не требует дословности. В то же время участие в чудесах, имевших место в жизни святых и праведников, переводит ее в категорию полусказочных существ, помогающих совершать подвиги или чудеса.
Говоря о сказочных существах, непосредственно связанных с конной тематикой, нельзя не вспомнить змия, которого топчет копытами конь святого Георгия Победоносца. В иконописи юго-западных районов Российской империи сложился свой узнаваемый тип чудовища. У него птицеобразная голова, большой клюв, иногда усеянный острыми зубами, крылья, птичьи ноги и чешуйчатое тело с длинным хвостом, извивающимся кольцами. Единственным из славянского бестиария, кто обладает этими признаками, является василиск, мифическое зооморфное существо, змей-петух, убивающее взглядом или дыханием: «Василискъ есть зміи прелютейши сей імать совокупленно смешенно плоть естества своего зверску и птичію и змеину. Главой бо своей и всей верхнею частью тела своего имать быти яко петел нози же самыя точію от тела исходящія яко зверины пленицы же его ширши и остре ноготни суть». Представление о василиске вошло в западно-украинскую легенду «Як полоз убився», где «великий гадир (змей) умер, увидев свое отражение в зеркале».
Очевидно, что смешение народных сказаний и церковных преданий воплотили в змие, которого побеждает святой Георгий, образ сказочного василиска, который и запечатлели на народных иконах юго-запада России (ил. 107, 108).
Превращение ремесла в промысел, а затем и кустарный промысел привело к появлению еще одного иконного феномена Синодального периода — иконы расхожей. В обиходе расхожая икона — недорогая, не очень высокого, с точки зрения эстета, художественного уровня, рассчитанная на невзыскательный народный вкус. Понятие «расхожая икона» должно включать не только невысокую стоимость и соответствующий художественный уровень, определяемый словом «скорописность» как синонимом небрежности. Один из главных признаков — массовое распространение стилистически и технологически идентичных образов, происходивших из определенных иконных центров. Расхожая икона — грандиозное по своему масштабу явление, показавшее, что кроме России «нигде и никогда иконное дело не поднималось на подобный уровень колоссальной промышленности». В основе лежит процесс формирования иконописи как кустарного промысла, зародившегося во второй половине XVII века на основе многочисленных ремесел. Определение и смешение этих двух терминов («кустарный промысел» и «ремесло») оставались спорными до начала ХХ столетия.
Кустарные промыслы, в том числе и иконописный, согласно определению Главного управления землеустройства и земледелия, обладают тремя основными признаками: 1) все изделия производятся для рынка, а не конкретного лица; 2) кустарь лично принимает участие в процессе изготовления продукции; 3) кустарь обязательно должен принадлежать к числу сельских жителей. Кустарное производство работает или непосредственно на рынок, или же сбывает свои изделия особым скупщикам, забирающим товар оптом.
К двум наиболее крупным центрам иконной промышленности относятся владимирские иконописные села (Холуй, Палех, Мстёра) и слобода Борисовка Грайворонского уезда Курской губернии. Особенности иконного мастерства, иконописцы, иконографические признаки и стилистика Палеха, Мстёры и Холуя достаточно полно освещены в историко-искусствоведческой литературе с точки зрения современного искусствознания. Но для понимания самого процесса появления и распространения расхожей иконы стоит взглянуть на нее глазами современников, подвижников русской науки и искусства, первыми обративших внимание на повседневную обиходную икону.
Массовое изготовление икон во владимирских селах, ориентированное исключительно на рынок, а также особая организация процесса производства и сбыта позволили И. А. Голышеву в 1870-х годах говорить об иконописи владимирских иконописных сел как об организованной иконной промышленности. Ее иерархическая структура включала следующие группы: — фабриканты; — работники-промышленники отправлялись в другие местности и там работали над набранными заказами; — старинщики занимались подстаринным письмом, а также починкой древних образов и торговлей старинными образами и вещами (эти категории производителей имели у себя работников до 20 и более человек); — работники-хозяева трудились вместе с семьей дома и продавали иконы офеням непосредственно сами; — работники по найму и ученики работали по найму или сдельно на хозяев. Посредниками между иконописцами и покупателями выступали офени, которые, разъезжая по разным местностям, набирали заказы и доставляли их в иконописные заведения, потом развозя уже готовые иконы. Доход офеней в этом случае составлял 50% от суммы заказа на написание иконы, то есть «50 коп. с рубля».
Сами иконописцы традиционно делились на личников и доличников, каждый из которых, согласно статистическим сведениям, в середине XIX века мог изготовить «до 600 икон и даже более в неделю… Следовательно, в год, исключив Святки, Святую неделю, масляницу и четыре недели ярмонок, у одного мастера приготовляется до 27,000 икон, а как мастеров будет до 60, то у всех их вместе напишется в год до полутора миллиона». Эти иконы, по свидетельству географа и статистика И. Ф. Штукенберга, «расходятся по всей России частью чрез разнощиков офеней в числе от 1½ до 2 млн образов». В конце XIX века исследователи отмечали, что «небольшая иконописная мастерская, состоящая из 5–6 работников, может выпустить в день от 100 до 300 так называемых „расхожих“ икон». Из Мстёры в 1879 году на продажу, по железной дороге и на лошадях, было отправлено 1 млн 205 тысяч икон.
Сегодня для нас разница между иконами Палеха, Мстёры и других центров расхожей иконы весьма ощутима, в том числе разделение «на профессиональную и на продукцию народных умельцев. Безусловно, что первые тоже не кончали Академию художеств. И в этом смысле между первыми и вторыми нет принципиальной разницы. Однако деревенские мастера выработали как бы свои принципы ремесла, которые, реализованные в непритязательных образах, ныне привлекают наше внимание непосредственностью самовыражения».
Проезжавший через Палех в 1880‑х годах А. Н. Молчанов отметил пять основных иконных «сортов», которые производили различные мастерские и иконные заведения: — низший сорт, самый дешевый, писали на березовых досках простыми дешевыми красками, по преимуществу ученики или малогодные рабочие; изображали, как правило, десяток известных святых, двунадесятые праздники, годовые святцы; — второй сорт от 1 до 3 рублей за икону писали с той же иконографической программой, но на кипарисе, который привозили в Россию с Ближнего Востока и покупали в Астрахани или Нижнем Новгороде; — третий высший сорт поручался мастерам исключительного таланта, умеющим рисовать не только заученные с детства образцы, но и «по фантазии или копировать из строгановского альбома древней иконописи»; — четвертый и пятый сорта — подризная и подфолежная икона. На доске рисовали только те части тела, которые были видны в отверстия ризы, вся остальная часть доски оставалась свободной, или же на ней писали только контур фигуры святого, поверх накладывалась риза, медная или фольговая, «щеголеватая, раскрашенная так, будто в нее вставлены различные драгоценные камни». Первый, второй, четвертый и пятый сорта расходились по всей России и далеко за ее пределами, третий, как правило, писали по заказу.
В стилистическом отношении разница между тремя «суздальскими» иконописными центрами проявлялась достаточно наглядно. По словам современника, «мстерец старается вообще быть верным иконописному преданию и пишет иконы по дониконовски, холуец — раб фряжской живописи, не сумевший однако добиться верности природе и естественности изображений, а палеховец держится средины между двумя этими пошибами». В Мстёре занимались исключительно «старинной» иконописью, мастера этой специализации назывались «старинщиками». Иконы такого пошиба производились в небольшом количестве, причем «старинщики» свое мастерство, способы, приемы и некоторые используемые материалы держали в тайне. Одним из видов их деятельности была «контрафакция» — подделка икон, которой более занимались староверы, сбывавшие свои произведения за большие деньги в Москву и на Нижегородскую ярмарку, тоже раскольникам, за суммы, доходившие до тысячи рублей за образ. Поддельные иконы были у них, по свидетельству И. А. Голышева, «очень усовершенствованы»: «…на новонаписанной иконе подделывают старый вид, трещины, места, отставшие от грунта, скоробленные доски так что трудно узнать, что икона новописанная и буквально относится к древнему времени». Помимо этого, «старинщики» занимались «починкою» — древние иконы «скоробленные или вовсе поврежденные исправляются в том же виде, в каком и были». Для своих работ «старинщики» скупали древние образа по всей стране, которые привозили офени. Например, в 1879 году в Мстёру было привезено более 28 тысяч собранных по всей стране старых досок (ил. 109).
Современники отмечали, что иконопись Палеха «стоит много выше против Холуйской и Мстерской» и не уступит лучшей московской. Здесь «…иконы фряжской живописи гораздо высшего достоинства. Действительно, Палеховская иконопись превосходит против других здешних иконописцев», которые работают по заказам, а также отправляют в «Москву и другие даже отдаленные местности Сибири». Палеховские образа «такого письма, которому позавидовали бы даже мастера лаврские (киевские и сергиевские)».
Среди работ палехских иконников в публикуемом собрании выделяется редкий подписной образ «Господь Вседержитель», который является произведением одного из лучших палехских мастеров — Смарагда Белоусова, в настоящее время, однако, почти неизвестного. Он написал этот образ в 1886 году для священника Василия Крицкого (Критского), который служил в Спасо-Преображенской церкви села Сакулино в 20 км от Палеха. Семейство Белоусовых было известно в Палехе с XVIII века. Выдающимся иконописцем второй половины XIX века считался Василий Евграфович Белоусов, который расписывал в начале 1880‑х годов Грановитую палату Московского Кремля. Он открыл собственное иконописное дело, которое расширили его сыновья в 1893–1894 годах. На работу они нанимали иконников только высшей квалификации. Среди них был и Смарагд (Измарахт) Александрович Белоусов — одаренный «платьечник», специализировавшийся на исполнении «доличного». В данном случае он проявил себя и как одаренный мастер-«личник», мастерски создав образ кроткого, милостивого Спасителя (ил. 110). Это ощущение усиливается колоритом, основанным на сочетании разбеленного бруснично-розового, небесно-голубого и золота. Поля, расписанные по золоту красным лаком и темно-голубой краской, образуют вокруг изображения нарядную и торжественную раму.
К числу дорогих заказных икон «палехских писем» относится и образ «Пророк Илия, с житием в 20 клеймах», отличающийся редкой иконографией и развернутым житийным циклом, литературным источником для которого послужили Жития святых святителя Димитрия Ростовского («Житие и чудеса святого пророка Илии») (ил. 111). Икона являлась храмовой в церкви, посвященной Илии Пророку. Скорее всего, она заменила собой древнюю святыню, что стало причиной создания подробного житийного цикла.
В 1860 году С. В. Максимов, совершая путешествие во владимирские города и села, остановившись в Холуе, писал: «Слобода Холуй населена иконописцами, промысел которых тесно связан с офенством. <…> Пишет образа и мой хозяин, у которого я нанял светелку; пишут образа во всех домах и не пишет их только мельник (но и он писать умеет), и то потому, что сделался мельником». Холуйские иконописцы были главными поставщиками «расхожей» иконы.
Основным «пошибом» расхожей холуйской иконы считался «греческий», и его технология во всех владимирских селах была одинакова. С древней иконы делали перевод, затем припорохом переносили изображение на сырой левкас и обводили по контуру металлической иглой. Так подготавливали сразу несколько досок, которые отдавали «доличникам». Эти, «не заботясь нисколько о чистоте работы, накладывают краски как попало где у них перейдет за очертание, где не достанет, им дела нет: они надеются на позолоту поля». Затем икону золотили и отдавали в работу «личнику», который прописывал лики коричневой краской и делал черные контуры, а затем, после просушки, покрывал олифой.
Отделка теней и выражений (светотени и выражений ликов) была делом навыка. Фантазия допускалась минимальная: «…как чуть одна икона не похожа на другую, то хозяин без разбора — которая лучше — штрафует рабочего. У рисовальщиков есть свой катехизис, переходящий преданием из поколения в поколение. Так напр., у владимирской Богородицы глаза должны быть голубые; у Богородицы „всех скорбящих“ — с зеленоватым отливом и с опущенными ресницами, у св. Николая — глаза карие и т. д. Этот катехизис очень пространен».
Для холуйских подокладных икон характерно упрощение формы, ее плоскостность; лики писали в два тона — «коричневый санкирь и один тон белильного вохрения, с белильными оживками». Колорит неяркий, цветовая гамма ограничена. Часто использовали охры, сажу, оранжевый сурик и бакан. Лаконичный изобразительный язык отличался определенным аскетизмом, «граничащим со своеобразием знаковой или… иероглифической системы», в формировании композиции доминирующую роль играла черная линия, иконографическая схема воспроизводится в кратких, но постигаемых образах. Цвета локальные, реже в смесевых сочетаниях, но они всегда тяготеют «к повышенной звонкости колористической гаммы», в состав иконографического репертуара включали те «наборы святых и композиций, которые имели практически универсальное и функциональное значение».
«Подфолежные» иконы писали («мазали») на «лубках» (пласт коры с внутренней волокнистой частью молодой липы), «горбыльках», «щепе», различных обрезках, реже на тонких дощечках. Основу грубо грунтовали алебастром (владимирцы) или покрывали частично тонким слоем грунта (Борисовка), после высыхания «мазали» места или поля и фоны для голов и рук и затем наскоро писали самое необходимое: «охряным овалом, коричневым очерком волос, пробелкою прядей, черными контурами черт лица, пробелами рядом и немногими оживками». У владимирских мастеров, по свидетельству И. А. Голышева, процесс создания расхожих икон распадался на 40 операций, причем отдельно взятый ремесленник исполнял только определенное их число.
«Работа икон на манер Греческой иконописи составляет преимущественную отрасль промышленности Холуйцев, и они, по дешевизне (2 р. сер. за сотню), меняются в огромном количестве, чрез офеней, окружающих со всех сторон Холуйскую слободу». Кроме греческого пошиба, холуйские иконники специализировались на письме живописном (масляными красками по масляному грунту) и «фряжском». «Расхожие» иконы Холуя поражают своим разнообразием «греческого», «живописного» и «фряжского» пошиба, от традиционных «краснушек» до провинциально академических.
Особое место занимают образы, украшенные травным орнаментом, то словно вышитым красным и черным шелком, то словно затканным серебряной парчой, как икона Богоматери «Троеручица». Образ выполнен в традиционной для Холуя XIX века цветовой гамме с активным использованием оранжево-красных цветов. Икона написана в «греческом вкусе» для ревнителей старой веры, о чем свидетельствует двуперстное благословение Младенца Христа и его теонимограмма. Однако следует заметить, что изображение писал иконописец синодальной традиции, так как третья рука Богоматери написана «живой»: старообрядцы предпочитали видеть ее полностью серебряной, т. е. в виде вотивного привеса, согласно сказанию преподобного Иоанна Дамаскина: «Зрите в полном писании изографии: сребрите третию руку, не соблажняите народи» (ил. 112).
Серебристое узорочье тканей состоит из крупных побегов аканта с множеством листьев и небольшими волютами на концах. Оно носит условный характер, больше напоминая роспись деревянной посуды Семеновского уезда Нижегородской губернии.
Побеги аканта вписаны в четко ограниченные четырех- или пятиугольные сектора между складками ткани, рисунок не уходит за линию обзора, «за спину». Темно-коричневые контуры листьев прописаны по посеребренному левкасу, и тем же цветом, несколько разведенным, выполнена штриховая структура листьев с белильными теневыми контурами. Несомненно, подобный орнамент холуйских образов был связан с росписью семеновской деревянной посуды, прямую или обратную связь с которой еще предстоит изучить.
К первому, самому дешевому, сорту расхожих холуйских образков относятся так называемые малышки — паломнические образки, которые холуйцы писали по заказам крупных российских монастырей, начиная от икон с преподобным Сергием Радонежским для Троице-Сергиевой лавры, вотчиной которого Холуй изначально являлся. Икона Богоматери «Вратарница» («Свеча Неугасимая Огня Невещественного») входила в партию икон, написанных по заказу Алексеевского мужского монастыря в городе Угличе, где 23 июня 1894 года прославилась икона Божией Матери. На иконе Богородица без Младенца словно парит над обителью. Списки, исполненные с чудотворного образа непосредственно в самом Угличе, отличались точным изображением монастыря со множеством строений под стеной и за ней.
Холуйский иконописец не был знаком с архитектурой обители и потому ограничился условным и довольно плоскостным видом монастырской стены с воротами и колокольней (ил. 113).
Манера исполнения — та самая, «греческая», самого простого сорта, скорость работы которой просто поразительна. По свидетельству очевидца, «…мастер словно печатает, а не рисует. На мелких иконах лицо требует от него всего восемь прикосновений кисточки: две черточки — брови; две точки — глаза; две полоски — щеки; черная черта — рот; маленькая точка — подбородок. Столь же просто рисуется одеяние. Взяв в руки две одинаковые иконы, хотя бы вышедшие из рук разных мастеров, трудно отыскать на них даже какое-нибудь микроскопическое различие штрихов или красок. Так все однообразно, ровно, одноцветно, как может казалось бы печатать лишь одна машина».
«Променная икона» — уникальное явление суздальских расхожих икон
И. А. Голышев в одном из своих наблюдений описал виды деятельности иконописцев, уходивших в отхожий промысел, то есть на заработки. Если он шел «для иконописной работы» или «с иконным ремеслом», это означало, что иконник один отправлялся писать образа «или по найму или прямо для приискания работы на месте». Если шел «с иконным промыслом», то, значит, он отправлялся не один, а с несколькими работниками. Особый вид составлял промысел «в ходьбу с иконами», «для промену икон», с «променными иконами», куда иконописцы отправлялись не один раз в год, «принимая в тех местностях заказы для поправки повреждённых от времени [икон], a исполнивши работы они доставляют заказчикам и разъезжают снова».
Записи на оборотной стороне иконной доски, выполненные чернилами или карандашом от руки либо процарапанные, служили свидетельством о принятом или исполненном заказе, его особенностях (сюжет, исполнение, стоимость), об имени и месте жительства заказчика, дате, имени автора (впрочем, последние встречаются довольно редко). Наиболее полной является надпись на тыльной стороне заказной иконы «Господь Вседержитель»: «IЕРЕЮ // ѾЦƔ ВАСИЛЇЮ // КРИЦКОМƔ // ПИСАНА МАСТЕРОМЪ // СЕЛА ПАЛЕХА СМАРАГДо//МЪ БѢЛОƔСОВЫМЪ // 1886. ГоДА» (ил. 114), в то время как на иконе «Богоматерь Владимирская» сведения о заказе и заказчике сохранилась лишь частично: «[…] // Федосею иванычу», «Владимерской».
Более подробно можно ознакомиться с пожеланиями и стоимостью работ на редком по иконографии и сюжету образе «Сретение иконы Богоматери Тихвинской в Царьграде»: «Встреча вцар град // Тихфинскои бож матер // совсемъ соборомъ на фрясь // […]», «Е. Г // богород»; карандашом: «Буково // шп // […] // 6 р 50» (ил. 115), а также на иконе «Плач Пресвятой Богородицы („Не рыдай Мене, Мати“, со святителем Николаем Чудотворцем и великомученицей Варварой на полях)», вплоть до образов предстоящих святых: «Тело // по скупасти», «Николай Д[…н.]ч // Козловъ», «4 р», «Вр. Е», «Не рыдай Мене // Мати», «Прин // Никола // варвар[…]», — и «Богоматерь Скорбящая и Христос в терновом венце»: «Спасителя Страсное // Б М скарбяще […]». Карандашная запись на тыльной стороне «Распятия Христова с разбойниками и предстоящими» подробно расписывает состав изображенных на иконе лиц: «Распятие съ разбойниками // постр[…] // и Пилатъ […] разбойника // копье в грудь Спасителя // […] разбойникъ съ мечомъ // Iоаннъ богословъ и Богоматерь // съ двумя Мироносицами // всего 10 лицъ». Сведения об изменении заказа содержит надпись на иконе «Успение преподобного Иоанна Многострадального», которую несколько раз зачеркивали и писали заново: «украскахъ // возвижение // в польне // Павлоградъ», «воздвижение // Iоаннъ // Многострадальныи // Екатеринославъ».
«Променные иконы» собирали для починки и поновления, этим занимались иконописцы, которые сами ходили «для промену икон», или иконники-старинщики. Крайне редко можно встретить «променную» икону со следами «поправки», поскольку поновительский слой либо полностью перекрывал первоначальное изображение, либо становился жертвой антикварной и любительской расчистки, нацеленной на более древние слои. Собрание Виктора Бондаренко насчитывает несколько икон, на которых сохранились не только поновления, но и следы первоначального замысла. Икону «Избранные святители: Петр, митрополит Московский, Василий Великий, Григорий Богослов, Николай Чудотворец, Иоанн Златоуст» поновили в конце XIX — начале XX века. В первоначальном варианте первой трети XIX века на иконе были изображены архангел с крыльями (в центре), очевидно, в рост, по сторонам от него стояли четыре избранных святителя с эллипсовидными на европейский манер нимбами (ил. 116).
В конце XIX века поверх центральной фигуры был написан поясной образ святителя Петра, митрополита Московского, в совершенно иной, уже академической стилистике. Фигуры святителей остались, но теперь композиционно они сместились на второй план.
«Деисус» исполнен в конце XVIII века в характерной для Холуя манере. На полях икон просматривается чеканка по посеребренному левкасу, с помощью которой были выполнены барочные медальоны, картуши для надписей и драгоценные камни на каймах риз. Первоначальное изображение отличалось бóльшей тонкостью и изяществом. Двуперстие, теонимограммы Христа, особенности написания имени Иоанна Предтечи служат указанием на старообрядческое вероисповедание владельцев «Деисуса». Несколько приглушенно-затемненное личнóе также характерно для подстаринных писем, выполненных по заказу ревнителей старой веры. Поверхностный красочный слой представляет собой почти полную запись, которую выполнили в конце XIX века при поновлении потемневшей от времени иконы. Манера письма «расхожая» и скорописная, довольно небрежная, нижележащее изображение повторяется условно и не всегда совпадает с контурами. Растительный орнамент в виде побегов с длинными закругленными листьями красного, зеленого, синего цветов с белильными светами неоднократно встречается на холуйских иконах второй половины XIX — начала ХХ века. Таким образом, этот «Деисус» как образец «променной иконы» иллюстрирует традиции холуйской иконописи на протяжении более чем 100 лет.
Особый интерес в качестве «променной иконы» представляет «Воскресение Христово (Восстание Христа от гроба)» и «Апостолы Петр и Павел» Нижний слой — традиционная суздальская «краснушка» — была написана в XVIII веке. Иконописец изобразил в рост апостолов Петра и Павла в трехчетвертном повороте к центру. Приблизительно через 80–100 лет олифа потемнела до такой степени, что святых уже невозможно было различить, и икону отдали для поновления. Иконописец, ничтоже сумняшеся, не стал расчищать старое изображение, а написал поверх него новое. Из «краснушки» он сделал подфолежную икону, написав только верхнюю и нижнюю части туловища Христа и его левую руку, головы двух воинов и ангела и три кисти их рук. Все остальное пространство, включая невидимых под олифой апостолов, закрывала блестящая фольга. И только после снятия покрывного лака стало явным, что Христос перекрыл руками голову и грудь апостолов, ризы которых «украшены» головами и кистями рук (ил. 117, 118).
Слобода Борисовка Грайворонского уезда Курской губернии, во второй половине XIX века превратившаяся в главный центр юго-западнорусского иконописания, поставляла расхожие иконы в Малороссию, Харьковскую, Полтавскую, Екатеринославскую, Ростовскую, Таганрогскую губернии, в Приазовье, на Дон, Кубань, Кавказ. По данным статистики, в 1884–1885 годы сбыт икон составлял более 300 тысяч штук в год. В отличие от владимирской иконописи, в основе манеры борисовцев изначально лежало академическое письмо. Традиционно принято считать, что начало иконописанию в Борисовке было положено князем Б. П. Шереметевым, чьей вотчиной была Борисовка с 1705 года. Согласно преданию, он около 1714 года пригласил из Санкт-Петербурга художника Игнатьева (Омельянского) для росписи Тихвинского храма и обучения борисовцев живописному мастерству. В середине — второй половине XVIII века документально известны борисовские иконописцы Тимофей Иосифович Мезеновский, Иван Прошаков, Григорий Подолянин. В XVIII — первой половине XIX века борисовские иконники были настолько широко известны на юго-западе России, что образ одного из них запечатлел в рассказе «Солдатский портрет» Григорий Квитко-Основьяненко. Его герой Кузьма Трофимович «…родом, если слыхали Борисовку, в Курской губернии, слобода графа Шереметева, так он оттуда был родом. В той Борисовке наилучшие богомазы, иконописцы и всякие маляры. <…>Уж негде правды девать: никто лучше ни намалюет, ни размалюет, как богомаз из Борисовки; уж не жаль и денег».
Живописное направление так и сохранялось в Борисовке до начала ХХ века, разделившись на профессиональное и примитивное течения. В первой половине — середине XIX века иконописцы, которых было в слободе в тот момент не более 25 (к началу ХХ века число колебалось от 600 до 800), отличались грамотностью, высокой нравственностью, «…прекрасно знали особенности церковной службы, Священное писание, жития святых, были хорошими живописцами, писавшими качественные и дорогие „красочные“ образа. <…> Эти мастера составляли „достоинство“ этого промысла и их „работы выигрывали в ценности и труд живописцев вознаграждался хорошо“».
К числу произведений профессиональной живописной Борисовки можно отнести икону «„Аз есмь Пастырь Добрый“ (Христос Добрый Пастырь)», восходящую к западноевропейской гравюре, которая иллюстрирует евангельскую притчу о Добром Пастыре: «Аз есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11). В России ареал распространения этой редкой иконографии находился на юго-западных землях. В большинстве своем такие иконы достаточно единообразны, «что делает допустимым их адресованность единому протографу — скорее всего, местнопрославленной (в каком-то малороссийском местечке) картине-иконе, привезённой с Запада или исполненной на месте по европейскому образцу». Образ, написанный в живописной манере мелкими лессировочными мазками, несет в себе характерные черты (особенности личнóго письма и контурные обводки на руках), в полной мере проявившие себя в борисовской иконе конца XIX века (ил. 119).
Промысел в Борисовке обладал всеми необходимыми признаками: кустарь происходит из сельского населения, он сам принимает участие в создании продукции, и весь его промысел сориентирован на рынок. В отличие от владимирских сел, в Борисовке отсутствовала промышленная иерархичность, в большинстве своем иконописцы были так называемыми работниками-хозяевами, которые писали иконы вместе с семьей, наемными рабочими и учениками. Основные заказчики и покупатели икон — крестьяне окрестных деревень, лавочники близлежащих губерний, иконообдельщики (занимавшиеся подфолежными иконами) и подрядчики по иконописному и иконостасному делу, среди которых выделялся В. И. Гетман из слободы Томаровки — владелец огромной иконописной мастерской и значительного числа заказов на исполнение иконостасов, церковных росписей по всему югу России. Не было и системы сбыта, аналогичной суздальскому промыслу офеней, на ближайшие рынки поставляли иконы сами крестьяне. Дальние рынки и ярмарки являлись прерогативой монахинь Борисовского Тихвинского монастыря, которые занимались иконообдельческим промыслом. Они нанимали из окрестных слобод крестьян, формировали обоз численностью до 20 подвод и двигались вместе с ним. Продажа на ярмарках шла прямо с возов. Одним из основных мест сбыта борисовских икон был Подол в Киеве, где продажа велась у фонтана «Самсон».
Борисовские иконники не имели иконописного подлинника и в качестве образцов использовали многочисленные западноевропейские и киевские (в печатных изданиях) гравюры, олеографию, лубок, а также литографии из книг и журналов и хромолитографии конца XIX века. Внутрипрофессиональное разделение процесса труда на личников и доличников у борисовских мастеров отсутствовало. Они делились по степени сложности работы на две категории — «красочники» и «личкуны», «личкуны-мазуны» (от «лик», «личнóе»). «Красочники» писали полную икону, то есть прописывали все детали личнóго и доличного в красках. «Личкуны» создавали подфолежные образа и делились на разряды по умению писать ту или иную часть тела. Как правило, «личкуны» плохо рисовали, и это явилось следствием того, что иконописец с детства набивал руку в писании какой-либо определенной части человеческого тела, иные части либо человеческую фигуру целиком он нарисовать уже не мог.
В собрании Виктора Бондаренко борисовская расхожая икона представлена полными красочными иконами, написанными в примитивной живописной манере, в масляной технике. Сюжеты традиционны для борисовской иконы — «Распятие Христово с разбойниками и предстоящими», «Воскресение Христово» в западноевропейском варианте «Восстание Христа от гроба», образы Спасителя, образы Богоматери, двунадесятые праздники, избранные святые. Живопись примитивна, условна и плоскостна, что компенсируется яркой цветовой гаммой, построенной на синем, голубом и красном цвете как основных, и зеленом и охристом (желто-коричневом) в качестве дополнительных цветов.
Вместе с широко известными иконографиями, в борисовской иконе встречаются изводы, в бóльшей степени характерные именно для юго-западных земель. Одним из них является образ «Всех скорбящих Радость», где Богоматерь изображена без Младенца в типе «Misericordia» («Милующая»), своеобразный западный аналог русского «Покрова Богородицы». Икона из публикуемого собрания представляет собой смешение нескольких иконографических вариантов — «Всех скорбящих Радость» (внизу расположены страждущие с ангелами), «Покров» (Богоматерь простирает свой мафорий над народом), «Мизерикордия» (без Младенца с распростертыми руками) и «Коронование» (ангелы возлагают корону на голову Пресвятой Богородицы), которое отсылает к европейской традиции, в частности польской, короновать образы Девы Марии. Этот вариант также носил название «Милосердная Мати» или «Казацкий Покров» (ил. 120).
По смыслу изображение Мадонны «Misericordia» полностью совпадает и со «Всех скорбящих Радостью», выражая заступничество Богородицы за всех страдающих людей, обращающихся к ней за помощью.
К числу местночтимых изводов относится образ Спасителя «Аз есмь Хлеб Животный» («Живоносный Источник»), получивший название по месту прославления «Малочернетчинский» или «Харьковский Спас». Образ прославился в селе Малая Чернетчина Сумского повета Харьковской губернии в 1887 году, и с него были сняты многочисленные копии для храмов от Суджи до Ахтырки по всей Слобожанщине (ил. 121).
Вероятно, первоначальная иконография была заимствована с гравюры Служебника черниговского издания 1697 года, происходившей от европейского образца. В центре композиции писали Христа в повязке на чреслах, стоящего в дискосе, наполненном кровью.
По сторонам от него изображали, в виде кулис, разорванную завесу Иерусалимского храма, которую впоследствии заменили на фигуры ангелов с потирами в руках. Ангелы собирают в потиры кровь из ран Христа. Очевидно, икона была создана в тот период, когда образ прославился, но название за ним еще не закрепилось. Поэтому борисовский «красочник» дополнил свое произведение строками из Евангелия от Иоанна (6, 51), поясняющими смысл этой аллегорической композиции, и назвал его «Живоносный Источник».
В борисовских подфолежных иконах умение писать только определенную часть тела ярко проявляется в несоответствии уровня живописи ликов, кистей рук и стоп. При этом, несмотря на скорописность, среди «личкунов» были мастера высокого профессионального уровня, создававшие глубоко индивидуальные образы, которые могли служить образцами для других мастеров (ил. 122, 123).


Несмотря на шаблонность и скорописность, некоторые подфолежницы отличались особым «художеством» и индивидуальностью, почти портретностью ликов, а также тщательной светотеневой моделировкой и проработкой мелких деталей. Чаще всего описанные особенности встречались в иконах Божией Матери, напоминающих образы белоликих Мадонн Раннего Возрождения. Плоская черная обводка резко контрастировала с живоподобными ликами, цветовая гамма которых находилась на грани между холодной белизной и теплым телесным тоном. Светотеневая моделировка строилась при помощи темно-коричневого цвета, растушеванного по контуру и углублениям. Его интенсивность варьировалась в зависимости от высоты рельефа лица. Скупая цветовая гамма дополнялась легкой ненавязчивой подрумянкой, придававшей ликам еще большую осязаемость. Доличное прописывалось скупыми черными контурами или не прописывалось совсем, оставляя открытым грунт или древесину (ил. 124, 125).


Мнения о художественном значении борисовских икон работы «личкунов», украшенных фольгой, разделились еще в начале ХХ века. Академик Н. П. Кондаков, занимавший пост управляющего делами Комитета попечительства о русской иконописи, посетил рынок борисовских образов в Киеве на Подоле и ужаснулся, увидев, «до какой степени падения дошло иконописное мастерство Борисовки». Одновременно С. Д. Шереметев, председатель того же Комитета, писал: «Все же более приличное, встречаемое на рынке — это произведения села Борисовки. При всех недостатках своих они заслуживают внимания и поддержки».
И борисовские, и владимирские расхожие иконы, при всей их непохожести от технологии до изобразительной манеры и иконографии, обладали несколькими схожими свойствами. Первое из них — универсальность образов. В 1860‑е годы пытливый наблюдатель отмечал (впрочем, не без некоторого преувеличения), что иконники «…не затрудняются одному и тому же святому давать различные наименования, смотря по требованию. Надо мужичку Иоанна Богослова — иконописец не задумывается дать ему первый попавшийся под-руку готовый образ и подписать на нем имя святого; не случилось у него мужского лика — он не теряется и тут: берет женский лик, делает некоторые перемены, подписывает по-славянски желаемое имя угодника — и образ готов». Ревностный священник Полтавской губернии И. Галабутский с возмущением писал, что суздальский иконник «…рукою привычной берется за кисть и разгонисто чертит изображение лица на удачу — что выйдет. Предполагает, положим, написать образ Св. Николая, а тут лицо выходит женское; ну, думает, припишем браду вот и угодник будет; — и часто можно встречать подобную вольность клиентов суздальской живописной школы».
Подобная универсальность была присуща не только владимирцам, но и борисовцам. При сравнении двух икон: «Великомученик Димитрий Солунский» и «Великомученица Варвара», — становится ясно, что на них представлен тот тип лика, который можно дополнить необходимыми атрибутами (длинные волосы, мафорий, усы, борода, корона, митра) и получить изображение любого святого борисовских «расхожих» икон (ил. 126, 127). Вторым схожим свойством было низкое качество «расхожих» икон, которые «по своей дешевизне, работаемые из самых дешевых материалов, очень не долговечны; простоит много год, то дерево ольха или сосна треснет, то краски все отстанут, то грунт отлетит, и вот ее пускают на воду, а приедет офеня (или сходят сами на ярмарку. — И. З.) купят новую». Хотя В. Т. Георгиевский, как и С. Д. Шереметев, отмечал, что качество борисовских подокладниц, украшенных фольгой, «несколько лучшего качества, чем на иконах мстерских и холуйских мастеров; она толще и прочнее и дольше держится на иконе, да и киоты в Борисовке делаются гораздо прочнее, чем в Холуе».


Невысокое качество и огромное количество производимых икон оказались в какой-то степени взаимосвязаны. Еще в конце XIX века И. А. Голышев задался вопросом, куда и почему требуется такая масса икон каждый год. Из разговоров с офенями и держателями иконных заведений ему удалось выяснить следующее. В Малороссии, и на Дону, и в степях, где у местных жителей в обычае украшать иконами все стены в своих жилищах, «каждый год они приобретают обязательно две иконы, по религиозному их верованию, что если он не купит новую икону, Бог не уродит им хлеба, а если хороший урожай, то покупают по нескольку икон. Испортившиеся иконы они снимают со стены и пускают на воду».
Одновременно с суздальскими и борисовскими иконописными промыслами подобный промысел существовал на территории Стародубья (юго-западные районы Брянской области). Он обладал теми же признаками, что и указанные выше: сельское население, производство на рынок, участие кустаря в производстве. Система организации промысла была идентична борисовской: «работники-хозяева» в собственном доме с привлечением семьи, наемных рабочих и учеников. Однотипные иконы, обладающие идентичными признаками, до настоящего времени наполняют в массовом количестве сельские церкви юго-запада России на территории Брянской области, Черниговщины (Украина) и Гомельщины (Беларусь). При внимательном рассмотрении этих памятников заметно различие в написании личнóго икон, происходящих из Стародубья, от икон из района Киева и Западной Украины, и идентичность визуальных признаков с гомельскими.
При изучении статистики 1860‑х годов по кустарным промыслам Черниговской губернии было отмечено, что число живописцев и иконописцев по населенным пунктам здесь распределилось следующим образом (мастера / ученики / рабочие). Центр и юг губернии: Чернигов — 7 / 0 / 5, Борзна — 4 / 2 / 3 (ближе к границе с Полтавской губернией), Кролевец — 9 / 2 / 4, Короп — 6 / 7 / 0 (ближе к границе с Курской губернией). В отдельных городах по 1 мастеру, в Соснице и Новгород-Северском по 2 мастера. В это же время в поселениях Стародубского уезда: Стародуб — 29 / 20 / 12; Погар — соответственно 17 / 9 / 19; Новозыбков — 1 мастер и 1 ученик; Клинцы — мастера-хозяева — 7 человек, наемные рабочие — 10 человек без питания с заработной платой, работники из семейств хозяев — 10 человек без платы. То есть из общего числа в 99 мастеров — 54 находились в Стародубе, Погаре, Новозыбкове и Клинцах. С учетом огромного числа однотипных шаблонных изображений и их четкой группировкой по стилистическим признакам, можно предположить, что центрами иконописного промысла в середине — второй половине XIX века являлись Стародуб и Погар (современные райцентры Брянской области).
Эти образа обладают признаками как народной иконы, так и примитива. Для них характерно упрощение, скорописность, лаконичность композиции и узнаваемость изображаемого персонажа. Яркая цветовая гамма, состоящая из небольшого набора цветов, и фактурность поверхности придают им нарядность и декоративность. Богомазы пытались воплотить в своих произведениях образцы ренессансной и барочной западноевропейской живописи, упрощая оригинальные схемы композиционно и колористически, подстраивая их под собственное умение и менталитет. Иконография местной народной иконописи не отличалась большим разнообразием. Сложившийся еще в XVIII веке набор изводов оставался неизменным до начала ХХ столетия.
По стилистике местная народная икона делится на две большие группы — «живописные» («богомазные») и «примитивы». Внутри первой образа различаются по цветовой гамме и орнаментике фона, а также манере написания личнóго. Для второй характерна манера личнóго, тяготеющая к академическим образцам, и наличие нейтрально-пейзажных фонов. Кроме того, каждая из них обнаруживает приверженность к определенному кругу иконографических сюжетов. Подобная градация говорит о существовании в регионе нескольких иконописных или живописных мастерских. Наибольшее распространение получили «живописные» или «богомазные» иконы, в которых особо ярко проявили себя черты народного барокко. Нахождение этих образов в самых отдаленных уголках России вплоть до Урала и Западной Сибири может рассказать о путях миграции (добровольной или вынужденной) малороссийского, в том числе стародубского, казачества (ил. 128).
Общие признаки, характерные для всех «живописных» икон: тонкая доска с ярко выраженной структурой древесины; основа может быть как цельной, так и составной.
С тыльной стороны поверхность доски гладкая. Шпонки тонкие, сквозные, клиновидные, трапециевидной формы в разрезе. Грунт почти всегда отсутствует. По этой причине и из-за плохого сцепления красочного слоя с поверхностью происходит осыпание краски по структуре древесины, по срезу годовых слоев. Техника масляная, живописная, скорописная, практически в один прием, со светотеневой моделировкой. Иконописная последовательность слоев отсутствует. Манера нанесения краски — кистевая, наиболее это заметно в изображении пышных розанов. Мазок фактурный, придающий формам рельефность, что особенно ярко выражено в орнаментике фонов. Этот тип икон отличается праздничностью и нарядностью, они покоряют своей простотой, выразительностью, открытостью локальных цветов и их гармоничным сочетанием. Цветовая гамма строится на комбинировании четырех основных цветов — желтого, ярко-красного, белого и зеленого. Золочение отсутствует, как в любой живописной картине.
Фоны красные, орнамент желтый, сплошь заполняющий фон. Основной элемент — барочные завитки тонких ветвей с мелкими листочками; косая клетка в различных вариантах; крупные стилизованные розы в окружении зеленых листьев. Нимбы сплошные, желтые, часто с двойной широкой обводкой. Изображение плоскостное; светотеневая моделировка условная. Построение объемов выполнено за счет крупных мазков на тон темнее основного цвета. Личнóе сильно выбелено; объем моделируют неглубокие тени, проложенные по контуру, линии носа и под бровями; типажи обобщенные. Отмечается стабильность в повторяемости одних и тех же сюжетов, что говорит о передаваемых из поколения в поколение прорисях и схемах, а также о скорописной работе на рынок с определенной конъюнктурой и востребованностью конкретных образов. К числу наиболее распространенных сюжетов относятся: «Господь Вседержитель», иконы Богоматери «Троеручица», Почаевская, Казанская, образы великомучениц Варвары и Параскевы, святителя Николая Чудотворца, архангела Михаила.
Чернофонные иконы были орнаментированы красными розами с темно-зеленой листвой. Нимбы сплошные, желтые. Личнóе живоподобное, с подрумянкой и проработанной светотеневой моделировкой. Глаза большие, с тяжелыми подочьями и верхними веками, которые придают взгляду особую выразительность. Иконография: «Господь Вседержитель», «Богоматерь Одигитрия», «Богоматерь Почаевская», святители и апостолы. Одними из самых распространенных были иконы с изображением преподобного Стилиана Пафлагонского. Композиция иконы построена по гравюрному типу и напоминает светский портрет духовного лица в интерьере, с элементами моления. В центре, в трехчетвертном повороте влево, изображен коленопреклоненный старец с широкой бородой. Он облачен в синий подризник, красную епитрахиль и черную мантию с зеленым исподом. Голова покрыта кукулем, из-под которого выбиваются пряди седых волос. Отличительная особенность местных икон — старец обеими руками снизу держит лежащего у него на руках головой влево спеленатого младенца. Перед святым стоит престол с облачением до пола. В правой части композиции — объемная завеса (ил. 129).
На престоле находится крест (иногда добавляли подсвечник, раскрытую книгу и образ Богоматери над престолом). В «живописных» иконах образ Богоматери заменяет пышный розан.
Имя святого писали или в поле нимба, или по его окантовке, как на публикуемой иконе, в различных вариантах: Устилианъ, Устилiанъ, Iсталiянъ, Устинианъ, Iустинианъ, Iустїниане, Jстинианъ, Устилианъ, Устилїанъ. Подобная вариативность имени возникла благодаря смешению в народном сознании образов трех святых чадозаступников, прославившихся исцелениями болящих, спасениями и воскрешением погибших детей: епископа Иулиана Кеноманийского (I век, память 13/26 июля), преподобного Иулиана Персиянина пустынника (IV век, память 18/31 октября) и преподобного Стилиана Пафлагонского (память 26 ноября / 9 декабря). При этом следует отметить, что только два последних из указанных святых изображались в монашеских одеждах, а Иулиан Кеноманийский как епископ должен быть облачен в архиерейские ризы.
Особое распространение иконы преподобного Стилиана в различных вариантах именования (Иустиниан, Иулиан, Устилиан и т. п.) получили в Южной России в XIX веке. Ареал распространения — Черниговщина, Стародубщина, Гомельщина, Киевщина. Скорее всего, в Киеве находилась привезенная из Греции почитаемая икона этого святого, разошедшаяся в многочисленных списках. Здесь он чтился именно как чадозаступник, и его массовое почитание в такой ипостаси могло быть связано с эпидемиологической обстановкой. В течение XIX века в Россию восемь раз вторгались пандемии холеры: в 1823, 1829, 1830, 1837, 1847, 1852, 1865 и 1892 годах, каждая из которых сопровождалась несколькими (от 4–5 до 12–13 лет продолжительности) холерными годами со смертностью, доходившей до 50 процентов заболевших. Дети, особенно младенческого возраста, являлись наиболее уязвимой категорией населения, а с учетом значительного числа инфекционных заболеваний детская смертность, особенно в южных районах, оставалась высокой, поэтому иконы с изображением преподобного Стилиана пользовались здесь неизменным почитанием и спросом.
Группа «примитивы» с нейтрально-пейзажными фонами обладает более выраженными признаками провинциального академизма и разнородна по уровню мастерства иконописцев. Стилистика образов и иконография напрямую отсылают к западноевропейским образцам и даже к произведениям круга В. Л. Боровиковского. Наиболее ранние из них датируются концом XVIII столетия, основное время бытования — XIX век. Для них характерны: масляная техника, живописная манера, провинциальная барочная стилистика, неустоявшаяся цветовая гамма, ее различные варианты (зелено-красно-синяя, бело-зеленая, желто-красная, бело-сине-красная). Фоны нейтральные, чаще всего заполненные клубящимися облаками. Наиболее распространенными были сюжеты: «Архангел Михаил», «Великомученик Георгий Победоносец», «Мученик Иоанн Воин», «Коронование Богоматери», «Сопрестолие», «Богоматерь „Трех радостей“».
К их числу относился и образ «Господь Саваоф». Несмотря на запрет на изображение Бога Отца Большим Московским собором 1666–1667 годов, эта иконография бытовала в русской иконе повсеместно. Во второй половине XVIII века, благодаря тиражной печати, появляется еще одна европейская иконография Бога Отца, которая в оригинале называлась «Бог-Даятель с двумя лицами» — перед Саваофом в облике седовласого старца со скипетром и державой был изображен Святой Дух в образе голубя. Особо широкое распространение композиция, дополненная головками херувимов, получила в южных и юго-западных губерниях Российской империи. Переработанный малороссийский вариант затем многократно копировали (копии копий).
Живопись образа отличается плавностью линий, мягкими тональными переходами и лессировочным мазком. Личнóе обладает характерными узнаваемыми чертами. В иконе четко различается работа мастера и ученика — столь различен уровень мастерства при написании почти схематичных рук и утонченного лика Бога Отца. Несмотря на некоторую анатомическую диспропорцию, лик монументален и торжественен. Помимо крупных иконописных промыслов, производивших однотипные расхожие иконы в сотнях тысяч образов, существовали локальные центры, производившие и распространявшие свои иконы в рамках соседних поселений, уездов или губерний. В публикуемом собрании они представлены иконами Среднего Поднепровья, Слобожанщины, Русского Севера, Приенисейского края.
Икона написана во время расцвета стародубских живописных мастерских в середине XIX века, ближе к концу столетия письмо значительно упростилось, стало более примитивным, схематичным и плоскостным (ил. 130).
Хронологическая лакуна советского времени, разрыв первично-следственных связей в цепочке «изготовление, сбыт (продажа), распространение, приобретение, бытование» породили еще один феномен расхожей иконы — холуйские, борисовские и стародубские иконы стали топонимически привязывать к месту их нахождения на момент исследования. Крупные скопления идентичных икон в одной точке привели к возникновению целых теорий о наличии уникальных иконописных промыслов в самых различных уголках России, в основе которых были все те же суздальские краснушки, борисовские примитивы и стародубские «богомазные» иконы.
Рассматривая иконы местных промыслов, не стоит забывать, что «расхожая» икона указанных центров, благодаря развитой системе продажи промысловых товаров через офеней, ярмарки и лавочную торговлю, а также при содействии самих иконописцев — носителей традиции, повсеместно распространилась по всей территории Российской империи. В список губерний, где побывали иконописцы, офени и «расхожая» икона в целом: Московская, Тульская, Тамбовская, Нижегородская, Рязанская, Пензенская, Симбирская, Муромская, Владимирская; весь юг и юго-запад России, Кавказ, Крым, Приазовье, Дон, Кубань, Русский Север (Архангельск и выше), Западная и Восточная Сибирь. О необъятной торговой географии офеней можно судить по их прозвищам в различных областях России: в Малороссии их звали «варягами», в Белоруссии — «маяками», на Русском Севере — «торгованными», в Сибири — «вязниковцами» и «суздалами». Следы русской «расхожей» иконы фиксируются в Финляндии, Польше, Румынии, Сербии, Молдавии, Валахии, Болгарии и на Святой Земле (в Иерусалиме). И только отделив эти известные «расхожие» иконы от общего числа бытовавших в конкретном регионе, можно будет выявить истинные черты и локализовать произведения, созданные местными иконописцами-кустарями. Таковы, например, вологодские провинциальные памятники, в которых отмечается не только индивидуальная манера письма личнóго и характерные физиогномические особенности ликов, но и особенности начертания и расположения именующих надписей (ил. 131, 132).
Единство в многообразии. Таков основной посыл собрания Виктора Бондаренко, и именно поэтому каталог построен не по хронологическому, а по иконографическому принципу, позволившему собрать из разрозненных образов столь пеструю мозаику. Это поможет увидеть мир обыденной иконы глазами ее современников, побывать в келье отца Зосимы, где «…в углу много икон — одна из них Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. <…> Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках».
Несмотря на огромный интерес к народной иконе и примитиву с начала 2000‑х годов и выставки 2020‑х годов, восприятие и отношение к обыденной иконе Синодального периода у большинства историков искусства и искусствоведов, воспитанных на идеалах древней иконописи, весьма сложно и противоречиво. Пожалуй, это отношение можно охарактеризовать словами, адресованными в середине XIX столетия князю Г. Г. Гагарину по поводу именно древнерусской иконописи: «Стоит только завести разговор о византийской живописи… и тотчас у большого числа слушателей (академиков — классиков) непременно явится улыбка пренебрежения и иронии. Если же кто-нибудь решится сказать, что эта живопись заслуживает внимательного изучения, то шуткам и насмешкам не будет конца. Вам наговорят бездну остроумных замечаний о безобразии пропорций, об угловатости форм, о неуклюжести поз и дикости в композиции. Я не мало не защищаю недостатков, происшедших от неопытности или варварства времен, я не ищу в них ни правильности рисунка, ни верности перспективы, ни надлежащего освещения, ни рельефности, ни тысячи других качеств… но я ищу мысли и стиля и нахожу их».
Обыденная икона Синодального периода, предназначенная для представителей различных слоев населения Российской империи, при всей ее кажущейся простоте, незамысловатости и примитивности представляет собой уникальное явление русского православного благочестия. Она обладает особыми универсальными свойствами и проявлениями, которые еще пока ждут своего исследователя. И стоит только в них вникнуть, чтобы разглядеть то особенное, глубоко личное и прекрасное в самых, казалось бы, незамысловатых и неказистых иконных образах. Главное, помнить о том, что красота — в глазах смотрящего.
Ирина Злотникова Кандидат искусствоведения, член российской Ассоциации искусствоведов