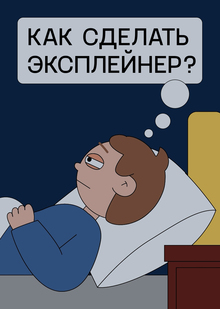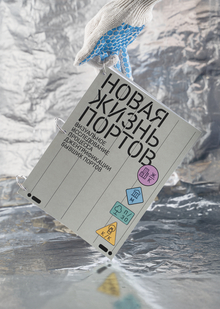Пространство памяти и истории — довольно сложная, хитрая и отчасти эфемерная материя, требующая исследовательской чуткости к деталям и знаками, а также большой ответственности в беседе со временем как объединяющей все сопутствующие факторы шапкой. Проекты современных художников, рассмотренные в данном визуальном исследовании, доказывают актуальность работы с памятью в совместимости с историко-культурными ландшафтами, с коллективной травмой и окружающим эти области комплексом практик, методик и концепций. Разноформатные подходы к измерению памяти утверждают его динамику и пытаются создать стратегии для размышлений о настоящем и будущем.

Ольга Чернышева. «На обочине», 2010. Серия фотографий
«На целом же поле [истории-памяти] мы учимся черпать силы из неразрешимых вопросов и конфликтов, превращая их в источники преобразовательной энергии»,
— Никита Кадан

Ольга Чернышева. «На обочине», 2010. Серия фотографий
Современное общество обращается к прошлому как консолидирующему национальную и культурную идентичности звену, объединяющей локусы функции. Ведь не может быть и речи об эволюции, если не знать корней.
«В истоках скрыта цель»,
— Карл Краус, писатель
Для современных художников работа с местом и глокальностью (глобальностью и локальностью в совокупности) — это в первую очередь постоянное переосмысление особенностей, разбор на составные части, изучение характеристик и беседы с другими познавательными сферами. Экспериментальные практики расчищают поле для построения коммуникации со зрителем и устанавливают базисы для попыток выявления недоговоренностей омута исторического. В этом отношении художники — это незаменимые действующие лица на пространстве исторических, философских и культурологических дискурсов. Художники — те же историки, археологи, дешифровщики, этнографы, социологи, архивисты, документалисты, следопыты, физики, геологи, географы, но с аффектом и чувствованием как неотъемлемым добавочным элементом.
«Мое последнее замечание касается воли „соединять несоединяемое“ в архивном [и не только] искусстве: это опять-таки воля не столько к тотализации, сколько к установлению отношений — к исследованию потерянного прошлого, к сопоставлению различных его знаков (иногда прагматическому, иногда пародийному), к выяснению того, что могло сохраниться для настоящего»,
— пишет о методологических стратегиях Алексей Бобриков в статье «Память и история: Герхард Рихтер и Джонатан Уотеридж» [25]
Пауль Клее. «Новый ангел», 1920. Монопринт
«У Клее есть картина под названием „Angelus Novus“. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу <…>. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал»,
— Вальтер Беньямин [26]