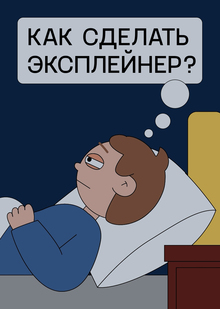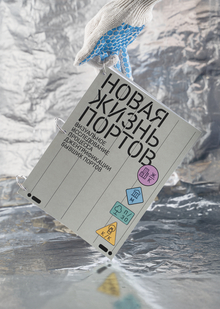Рубрикатор визуального исследования:
I. концепция
II. главы: ii.i. среда вокруг тела здания: браунфилды, или оживление тела ii.ii. тело здания: архитектура, или модификация тела
промышленная архитектура →… жилая архитектура →… культовая архитектура →…
ii.iii. власть тела здания: когда «память места» оказывается сильнее
III. выводы
IV. библиография

изображение из 3-ей главы: «вмешательство» в стены замка Гельфштын элементами из кортеновской стали и МАФы внутреннего двора, Тын-над-Бечвой, Чехия, 2020 год, проект бюро «Atelier-r»
Понимание архитектуры как искусства для среды обитания человека
Ещё со времён античного римского архитектора Витрувия (I в до н. э.) архитектура мыслилась как среда, созданная человеком и для человека. Знаменитое триединство «польза — прочность — красота» (лат. «Utilitas — Firmitas — Venustas»), сформированное Витрувием, отражает субъектоориентированный характер архитектурной среды, который соединяет в себе эргономику (польза), технические характеристики (прочность) и эстетику (красота), критерии которых определяет человек. Сомасштабность проектируемой среды человеку — сомасштабность не только пропорционально, но и эмоционально, на уровне бессознательного восприятия — основополагающее свойство архитектуры.
Как и любое искусство, архитектура изменяется с течением времени, потому что изменяются потребности и ресурсы человека. Об этом пишет Ричард Сеннет в книге «Плоть и камень: тело и город в западной цивилизации», анализируя архитектуру древних греков, которая была формальным выражением внутренней свободы афинских граждан: «выставляя тело напоказ, афинянин подчёркивал свой статус свободного гражданина», и это мировоззренческое «стремление к демонстрации, обнажению и раскрытию наложило отпечаток на афинскую архитектуру» [7, 33]. В качестве примера можно рассмотреть афинский Храм Парфенон, который, подобно телу афинских граждан, незащищённо располагался на Акрополе, как бы возвышаясь над пространством жизни людей и открывая себя «взглядам из любой точки раскинувшегося внизу города» [7, 33]. Посредством архитектуры жители Древних Афин выражали своё представление о внешнем мире и устройстве мира внутри человека.
изображение из 3-ей главы: обновлённый интерьер руин замка Гельфштын с перекрытием светопрозрачной кровлей, Тын-над-Бечвой, Чехия 2020 год, проект бюро «Atelier-r»
Проходили века, менялись потребности и взгляды человека на мир — и античные представления о «телесном жаре», главенствующие в Афинах, сменились индивидуалистским подходом к человеку как к Homo economicus Адама Смита — человеку, находящемуся в постоянном движении, в постоянном стремлении, что Р. Сеннет связывает с выходом в свет в 1628-м году книги Уильяма Гарвея «De motu cordis» («О движении сердца»). Открытия Гарвея повлияли на архитектурный облик среды: «они [градостроители эпохи Просвещения] стремились сделать город местом, где люди могут свободно передвигаться и дышать полной грудью; их идеалом был город артерий и вен, по которым жители свободно текли бы подобно здоровым кровяным тельцам» [7, 312-313]. Таким образом, любой медиум в искусстве, любое формальное проявление искусства в каждую эпоху — это выражение внутренних убеждений и потребностей человека.
Можно было бы сказать, что человек императивен в отношении искусства, в особенности в отношении архитектуры, которая буквально является средой его обитания, однако отношения между искусством и человеком всегда были двусторонним актом коммуникации.
С одной стороны, нынешние тенденции в проектировании отвечают ценностям современного человека: гуманизм и социальноориентированность архитектуры, забота о здоровье и окружающей среде и «устойчивая» архитектура, экономическая рациональность и осознанное обращение с ресурсами для проектирования. Здесь следует упомянуть, например, 17 целей ООН в области устойчивого развития, где окружающая человека и им же созданная среда может мыслиться универсальным средством достижения каждой из целей. С другой стороны, тенденции проектирования в современном мире выявляют осознаваемое влияние среды на человека. Здесь можно вспомнить современные подходы к проектированию, например, образовательной среды — так называемый «средовой подход» в воспитании детей. Сейчас в научном дискурсе осмысляется и разрабатывается подход к проектированию «детских пространств», определяющим для которого является понимание различий между детским и взрослым восприятием среды. «Можно сказать, что взрослые воспринимают пространство в большей степени через форму <…>, в то время как для детей определяющей является именно функция» [19, 1].
изображение из 3-ей главы: главный атриум проекта адаптивного повторного использования приходского дома церкви Сан-Климент-ин-Навес, Навес, Испания, 2015 год, проект бюро «OAB»
В этой же статье отмечается, что «взрослое проектирование» (когда пространство придумывают взрослые люди) мест, предназначенных для детей, не учитывает когнитивные особенности детей, в связи с чем у них «не развивается чувство привязанности к месту» и, как итог, «дети чувствуют скуку и не хотят ходить в школу или чувствуют страх при посещении больниц» и испытывают проблемы с социализацией [19, 1].
Таким образом, среда влияет на человека в той же степени, в которой он влияет на среду при её проектировании.
В XXI веке из-за отсутствия «большого стиля» в архитектуре, которые существовали в рамках парадигмы искусства с XII по XX век (от романики до модерна), современные архитекторы получают больше свободы с точки зрения формального проектирования, но это не делает их свободнее в глобальном смысле. Сейчас происходит переосмысление на всех этапах проектирования — от более рационального использования ресурсов и неосвоенных территорий, которых становится всё меньше, до учёта потребностей и особенностей гораздо большего числа социальных групп. Архитектура стремится к гуманности и свободе, но это накладывает на архитектора большее количество ответственности и ставит его в ситуацию постоянного анализа и ориентирования в поле деталей, которые необходимо учесть. Современное проектирование среды ставит перед человеком новые задачи, для которых нужно разработать новые пути решения. Личная и социальная ответственность архитектора во многом переходит с рационального уровня на эмпирический.
Адаптивное повторное использование как отклик на современные запросы в проектировании среды
Адаптивное повторное использование, или adaptive reuse — один из подходов к проектированию предметно-пространственной среды, который позволяет учесть современные потребности и уже существующий контекст, продиктованный историей.
В статье Жаклин Аманды «Sustainable Ephemeral: Temporary Spaces with Lasting Impact» анализу подвергается сам феномен архитектуры, где «увековечение — неотъемлемый атрибут архитектуры как искусства» [3, 78]:
«На протяжении всей истории архитекторы были озабочены вопросами постоянства и монументальности, стремясь создать и сохранить смысл в зданиях и ритуалах, окружающих их. Такое отношение можно встретить по всему миру, хотя оно проявляется по-разному. <…> Хотя архитектура традиционно стремится к постоянству и сохранению культуры в построенной форме, современная архитектурная практика находится в постоянном конфликте в эпоху, когда технический прогресс и перемены неизбежны» [11, 8].
И правда: монументальные мегалиты и кромлехи, античные храмы, средневековые базилики, храмы-ротонды эпохи Возрождения, дворцы эпох Барокко и Рококо, парки Классицизма — все они были монументальны по своей сути и стремились если не создать, то сохранить культурную традицию. С наступлением индустриальной революции, технологического прогресса стили в искусстве стали в большей мере адаптироваться под современность — можно вспомнить, например, модерн в широком смысле этого термина, когда определяющими формообразующими факторами стали отказ от историзма и возможности современных технологий. Однако и в ХХ веке идея «вечной архитектуры» находила пути выражения — например, в постройках времён сталинского ампира в СССР. Монументальность в архитектуре всегда была аллюзией стойкости и силы — веры, духа или власти.
«Архитектура древнего Западного мира демонстрирует стремление человечества к бессмертию и благочестию посредством монументальных зданий, стремящихся к совершенству. <…> Однако в век стремительного технического прогресса спроектированные объекты и здания быстро устаревают, и, по сути, наша культура стала одноразовой» [11, 8].
Это приводит к появлению такого феномена, как «запланированное старение», или planned obsolescence предметно-пространственной среды [11, 11]. Как итог, здания необходимо обновлять и подстраивать под современные нужды (как с моральной, так и с технической точек зрения). Архитектура, уже созданная и утратившая своё первостепенное функциональное значение, стремится к адаптации и вовлечённости в современный культурный код, чтобы оставаться актуальной, при этом не теряя своей аутентичности. Подобный парадокс и помогает решить подход адаптивного повторного использования. Концепт адаптивного повторного использования, или АПИ, как термин будет упоминаться в дальнейшем, вторит идее экономики замкнутого цикла, когда отработанные элементы одной системы становятся сырьём в другой [12]. АПИ позволяет вернуть полезность морально и конструктивно устаревшим объектам, при этом сохранив как ресурсы, так и культурную значимость. В сочетании новая и старая архитектура обеспечивают соответствие аутентичного объекта со своей историей требованиям современности, при этом «оживляя» его и возвращая актуальность [13].
«Хотя здания использовались повторно на протяжении всей истории, новые архитектурные решения рассматриваются как творческий способ вдохнуть новую жизнь в существующий исторический контекст, одновременно придавая ему экономическую и социальную ценность. Сочетание новой и старой архитектуры обеспечивает сохранение аутентичного характера при одновременном обеспечении соответствующего нового использования. Такое новое использование в конечном итоге дополняет историческую структуру здания и застроенную территорию в целом» [13, 1].
изображение из 1-й главы: сохранение промышленной атмосферы в проекте адаптивного повторного использования набережной Миншенг, Шанхай, Китай, 2018 год, архитектурное бюро «Liu Yuyang Architects»
С точки зрения терминологии у «адаптивного повторного использования» существует многочисленное количество синонимов и вариаций как в русской, так и в зарубежной литературе. Д. Ким приводит анализ синонимического ряда в англоязычной литературе, который представлен с переводом на русский язык для ознакомления ниже [14, 11-12]:
В данном визуальном исследовании под термином «адаптивное повторное использование» будут подразумеваться проекты, в рамках которых новое строительство осуществляется на базе существующего (объекта или среды) и в результате которого новый проект вступает в некоторые отношения с существующим, которому при этом назначается новая функция, отличная от первоначальной. Например, проектом адаптивного повторного использования будет считаться реконструкция фабричных корпусов с их объединением стеклянным атриумом с целью строительства элитного жилого комплекса, но не будет считаться реконструкция маяка с целью снова ввести его в эксплуатацию с той же функцией.
Определяющими аспектами являются: а) появление нового архитектурного объекта в некоторых отношениях со старым, уже существующим; б) изменение функции существующего архитектурного объекта.
Несмотря на то что проекты адаптивного повторного использования стали теоретизироваться и осмысляться в научной литературе только в XXI веке, прецеденты существовали в истории искусства и ранее. Одним из программных проектов можно считать реконструкцию Музея Кастельвеккио (итал. Museo Civico di Castelvecchio) в Вероне (1958–1974 гг.) по проекту Карло Скарпы. В своих работах по реконструкции исторических зданий Скарпа старался соблюсти баланс между 1) своей интерпретацией истории здания, 2) исторической значимостью современной архитектуры, 3) требованиями современности [18, 444]. Архитектор отказался от подхода предыдущего реконструктора Фердинандо Фориати под руководством директора музея Антонио Авены, которые в 1923–1926 гг. в китчевой форме постарались воссоздать облик Кастельвеккио. Авена и Фориати реконструировали средневековые башни, снесённые в 1799-м году армией Наполеона за неповиновение горожан, и казармы, которые появились в Кастельвеккио в 1797-м году, во времена наполеоновской оккупации региона Венето. Кроме того, они заменили несколько проемов в Кастельвеккио готическими дверями и окнами из местного палаццо.
слева: вид Кастельвеккио (ю/в) до реконструкции Авены в 1923-26 гг.; по центру: вид на двор (с/в) с казармой, оставленной военными, в наполеоновском стиле, ХХ в; справа: фасад внутреннего двора (с/з) с существующей наполеоновской лестницей на заднем плане, XX в.
В 1957-м Скарпа был приглашен на должность нового архитектора по реконструкции Кастельвеккио: он предложил снести лестницу и казармы, построенные во времена Наполеона и реконструированные Фориати, изучил ров, который был обнаружен во время сноса, перестроил благоустройство и галерею на 1-м этаже и постарался усилить исторический флёр Кастельвеккио, интегрировав в стены из кирпича железобетонные конструкции, таким образом создав актуальное и сейчас выставочное пространство.
слева: Антонио Авена, планы реконструкции Кастельвеккио, 1923-26 гг.; справа: Карло Скарпа, планы реконструкции Кастельвеккио, 1973 год
элементы реконструкции Кастельвеккио по проекту Карло Скарпы, 2014 год
элементы реконструкции Кастельвеккио по проекту Карло Скарпы, 2014 год
«Арки действуют как фильтры, пропускающие воздух из одной комнаты в другую. Мы замечаем, что главная балка делит кровлю на две части и, кажется, указывает нам путь, по которому следует идти»¹.
¹Оннибони Л. Castelvecchio Museum — A masterpiece by Carlo Scarpa. 2014. URL: https://www.archiobjects.org/museo-castelvecchio-verona-italy-carlo-scarpa/ (дата обращения 9.09.23)
При перепроектировании Кастельвеккио Скарпа гармонизировал отношения между старым и новым в архитектуре — поддерживал баланс между существующими помещениями и их потенциальным использованием, доступной площадью и требованиями программы по перепланировке. Его главной целью было создать новые формы таким образом, чтобы привлечь внимание к существующей структуре, не ущемляя её историческую и художественную ценность [18, 448]. В интервью Мартин Домингез архитектор заявил о своем намерении так: «разрешить (старому фрагменту) поддерживать свою собственную идентичность, свою собственную историю <…> Таким образом, увеличивая напряжение между новым и старым» [18, 448].
Отличия адаптивного повторного использования от проектирования «с нуля»
Методом такого анализа мы подходим к определяющему вопросу — чем процесс адаптивного повторного использования отличается от проектирования «с нуля» или от обычной реконструкции, которая позволяет вернуть устаревшему зданию свой облик? Основным отличием является сам процесс проектирования.
«Для нас увлекательно работать с существующими структурами здания, потому что сопутствующие ограничения требуют совсем другого вида творческой энергии» (бюро Herzog & de Meuron о проекте Tate Modern в Лондоне на базе бывшей электростанции, 1995) [16, 125].
изображение из 1-й главы: вид на главный фасад Tate Modern на базе бывшей электростанции Бэнксайд, 2000 год, архитектурное бюро «Herzog & De Meuron»
При АПИ определяющим звеном в процессе проектирования мыслится не существующее или новое здание, а та связь, которая создается между ними. Транслятором и реципиентом этой связи является субъект — архитектор, который руководит процессом дизайн-мышления и проектирования и настраивает связь. Субъект выступает резонером в диалоге между существующим и новым объектом.
Таким образом можно сказать, что адаптивное повторное использование — это одновременно и субъектоориентированный процесс, что связывает его с конвенциональной архитектурой как средой, созданной человеком и для человека, и субъектный процесс, где ведущая роль в проектировании отводится субъекту — человеку-архитектору, что отличает подход АПИ от традиционного понимания проектирования.
Отсюда вытекает особая значимость этики и гуманизма — от того, насколько хорошо архитектор осознает и осмыслит существующую среду, зависит возможность создания новой архитектуры, способной вступить в гармоничный диалог с историей, а значит, способной создать гармоничную среду для общества. Человек, подобно опоре, держит существующую и проектируемую среды в руках, пытаясь не силой, но творчеством связать их воедино. Постмодернистская парадигма даровала человеку свободу от «большого стиля» и единой высокой цели архитектуры, поставив его в роль посредника между прошлым и настоящим.
Так, «адаптивное повторное использование — это особая форма реконструкции, которая ставит перед дизайнерами довольно сложные задачи» [13, 1].
Суть процесса архитектурного проектирования
Говоря о процессе архитектурного проектирования, можно выделить две составляющие: формальную и феноменологическую. Формальная отвечает за структуру и внешний облик здания, в то время как феноменологическая работает скорее на его «душу», на ту атмосферу и настроение, которые порождает в нас тектоника здания. Это исходит из того, что результат любого проектирования имеет два выражения: материальное, формальное (так называемая hard copy), связанное с некоторым материальным присутствием, с пространством, соотношением частей и тем местом, которое объект занимает в пространстве; и феноменологическое, сущностное, заложенное в сути проектируемого объекта интенцией автора или восприятием зрителя.
Формальное выражение неотделимо от сущностного в диалоге — как форма рождает настроение и влияет на восприятие, так и атмосфера среды способна изменить материальный облик объекта.
Например, планировочные решения базилик устроены таким образом, что центральный неф (наиболее широкий и высокий) ведёт прихожанина прямо к апсиде, где располагается главный алтарь — «сердце» храма, его главное место — так форма диктует восприятие пространства. И наоборот, большое количество остекления в скандинавской архитектуре — следствие влияния недостаточно количества солнечного света на организм человека. Сезонное аффективное расстройство, или seasonal affective disorder (SAD) вызвано чрезмерной выработкой «гормона сна» мелатонина в тёмное время суток, а потому необходимость увеличенной инсоляции для борьбы с депрессивным расстройством во многом определила особенности архитектуры северных стран с недостатком солнечного света. Биоритмы и стремление к естественному свету в помещении через панорамное остекление — так восприятие среды человеком определило форму архитектуры.
Методология формального проектирования
Говоря о формальной составляющей архитектурного проектирования, мы вспоминаем, пожалуй, центральный конфликт не только архитектуры, но и искусства в целом — отношения между формой и содержанием. В книге «Философия для архитекторов» сербско-норвежский историк архитектуры Б. Митрович определил формализм как «доктрину, которая утверждает, что эстетические качества произведений визуального искусства проистекают из визуальных и пространственных свойств» [15]. Эта доктрина, то есть доминирование формального над содержательным может быть обусловлена факторами различной природы — и в истории искусства существует множество примеров, когда эти факторы определяли стилевую принадлежность объекта.
Самым ярким примером «формального» течения в искусстве является функционализм начала XX века. Строгое соответствие формы функции и подход к проектированию с точки зрения неких универсалий, в малой степени учитывающих индивидуальный потребительский опыт — возвращаясь к триединству Витрувия, можно сказать, что функционалисты делали упор на «пользу».
Полезность объекта определялась его утилитарностью и соответствию современным требованиям общества, в то время как феноменологическое, атмосферное в объекте уходило на второй план. Конечно, будет несправедливым утверждение, что функционализм отвергал идею сущности объекта — однако если рассматривать его крайние проявления в проектировании именно предметно-пространственной среды, можно проследить деструктивное влияние формального подхода на «память места».
слева: старая карта Парижа Гийома Делиля, 1742 год; справа: Ле Корбюзье, «План Вузаен» по реконструкции центра Парижа, 1925 год
Сугубо утилитарный подход к структуре города нашёл выражение в знаменитом «Плане Вуазен» ле Корбюзье (1922–1925 гг.). Догматическое зонирование города, которое учитывало экономические и социальные потребности современников ле Корбюзье, совершенно не учитывало атмосферу существующего Парижа — города с многовековой и сложной историей, с большим количеством культурно значимых построек и мест, имеющих значение для населения города и общества в целом.
Ле Корбюзье, «План Вузаен» по реконструкции центра Парижа, рисунок перспективы города, 1925 год
Этот пример доказывает, что догматический формальный подход при работе с существующей средой неприменим к подходу адаптивного повторного использования, так как нарушает связь между прошлым и будущим места. Уделяя минимальное внимание контексту, формальный подход к проектированию мыслится односторонним и не комплексным.
Ле Корбюзье, «План Вузаен» по реконструкции центра Парижа, изометрия, 1925 год
Формальный подход к проектированию предельно разработан как в советской/российской, так и в зарубежной литературе. Ниже приведены лишь некоторые классификации формального анализа среды, которые могут быть полезны в рамках данного визуального исследования:
1. В. Ф. Кринский в книге «Элементы архитектурно-пространственной композиции» (первое издание 1934 г.) предлагает свою методику анализа формального «языка» объемно-пространственных форм в архитектуре: геометрический вид формы, величина, положение формы в пространстве, масса, фактура, цвет, светотень, пропорции, ритм, фронтальность, объём и глубинно-пространственность композиции [5];
2. В статье «A Design Strategy for Transforming an Old Power Plant into a Cultural Center» C. Парк, ссылаясь на книгу Э. Т. Уайта «Path, portal, place», с помощью 21-й пиктограммы анализирует сценарии «вторжений» новой архитектуры в существующую [17];
пиктограммы для обозначения «вторжений» в существующую архитектуру на основе классификации С. Парка [17], перерисовка и авторский перевод (заливкой показан новый объект, контуром — существующий)
3. В другой статье об АПИ, где упоминается иллюстрированный анализ С. Парка, Дафна Фишер-Гевиртзман приводит ещё два подхода формального анализа при проектировании на базе существующего здания: стратегии «вставка — пересечение — вмешательство» и тактику анализа по пространственным критериям: плоскость, свет, поверхность, предмет, видовые точки и движение со ссылкой на разработки других исследователей (Г. Брукнера и С. Стоун) [13];
стратегии взаимодействия зданий при трансформации существующей застройки на основе работы Д. Фишер-Гевиртзман, перерисовка и авторский перевод [13]
4. Похожую стратегию формального проектирования в рамках адаптивного повторного использования осмысляет Р. Карасев в статье «Реорганизация промышленных территорий и архитектурных объектов с учётом адаптивных процессов», анализируя на конкретных примерах из мировой архитектурной практики «метод аналогий», «метод интеграции» и «метод аппликации» [4].
Проанализировав большое количество релевантной литературы, можно сделать следующие обобщающие выводы.
В рамках формального анализа в проектировании авторы учитывают:
а) особенности структуры и тектоники существующего/проектируемого объекта; б) формат отношений, который возникает между существующим и новым объектами в среде.
Эти аспекты, а также формальную систему, разработанную С. Парком в форме иллюстраций, которые приведены на следующей странице с рядом дополнений, я буду использовать для анализа кейсов в рамках данного визуального исследования.
пиктограммы для обозначения «вторжений» в существующую архитектуру на основе классификации С. Парка [17] с дополнениями, перерисовка и авторский перевод (заливкой показан новый объект)
Нельзя недооценивать значимость формального анализа в адаптивном повторном использовании, где «масса, размер, ритм и форма существующего здания предоставляют возможности для баланса или противопоставления», являясь основополагающими для нового проектирования на их базе [13, 2]. Формальные элементы проектируемой среды, говоря о процессах адаптивного повторного использования, могут дать архитектору информацию об атмосфере места и подсказать приёмы для нового строительства на базе существующей среды. Однако использование этих приёмов неотделимо от учёта контекста и «памяти места», чтобы избежать абстрагирования новой архитектуры в рамках адаптивного повторного использования, предполагающего связь между существующим и проектируемым.
Контекст, или «память места» и атмосфера в контексте проектирования
Контекст и учёт окружения неотделимы от процесса проектирования даже в его формальной направленности. В проектной сфере существует понятие предпроектного анализа — от составления портрета целевой аудитории и сбора аналогов в любой сфере дизайна до инженерных изысканий и градостроительных ограничений на территории, говоря о проектировании предметно-пространственной среды.
Понимание контекста будущего проекта предоставляет множество вводных и позволяет предвосхитить решение большого количества вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы — от концепции до технической реализации проекта.
Однако контекст — многослойное явление, и на глубинном уровне контекст может быть полезен в адаптивном повторном использовании: от контекста вокруг объекта, снаружи, мы погружаемся во внутренний контекст, в сущность «памяти места» и атмосферы, рассуждения о которых звучали ранее. Пренебрегая внутренним контекстом существующей среды, проектировщик, дизайнер, архитектор — субъект проектирования — теряет значительный блок информации предпроектного анализа, который необходим для понимания структуры будущего проекта на базе существующей среды. Конечно, осознание внутреннего контекста в меньшей степени поддается категоризации и анализу по формальным признакам — во многом оно субъективно и зависит от восприятия человека. Это лишь еще раз подчеркивает значимость среднего звена в цепочке «существующая среда — субъект-архитектор — новый проект», так как это звено во многом определяет атмосферу места и работает с ней.
изображение из 3-ей главы: главная лестница на руинах доминиканского монастыря, Птуй, Словения, 2013 год, архитектурное бюро «Enota»
О некой атмосфере, «ауре» объекта писал Вальтер Беньямин в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» 1936-го года [1]. Ауру, эту «сущность <…> нельзя уловить исключительно через какие-то конкретные качества произведения» [6, 3]. Идеи Беньямина нашли отражение в «новой эстетике» немецкого философа Германа Шмица, который вывел концепцию Беньямина с уровня объекта на уровень пространства.
В рамках АПИ важным мыслится следующий вывод Шмица: образы «относительно независимы по отношению к своим источникам» [6, 4], то есть они могут осмыслены и уловимы в среде, а также перенесены в новую, даже если «источник» этих образов в какой-то степени изменён или утрачен. То есть «память места» и его атмосфера хранятся не в кирпиче, из которого сложено здание, а вокруг этого кирпича.
Подобные идеи развивал современный немецкий философ Гернот Бёме, о чём пишет Л. Яковлева в статье «Атмосфера архитектурно-городских пространств в эстетике Гернота Бёме»: для Бёме в его «Новой эстетике» «возможность воспринимать и создавать особое настроение в архитектурных, городских пространствах, в природных ландшафтах является центральной темой» [10, 45]. Определяющим для понимания атмосферы в философии Бёме становится понятие экстаза «как особого выхода из себя вещей, их излучения, излияния на пространство и на того, кто воспринимает данные вещи» [10, 60]. То есть восприятие атмосферы и работа с ней в контексте проектирования — субъективный акт, но акт осознаваемый и реальный.
Учёт атмосферы места на уровне субъекта и её интегрирование в новое строительство через разработанный формальный подход, о котором было написано ранее — эта стратегия может стать наиболее успешной для реализации проектов адаптивного повторного использования, где существующая застройка даёт архитектору понимание о «памяти места», а формальные приёмы помогают включить это знание в новый проект.
Таким образом, для данного визуального исследования можно сформулировать следующий исследовательский вопрос:
каким образом атмосфера и «память места» влияют на процесс проектирования новой предметно-пространственной среды в рамках адаптивного повторного использования?
Размышления в концепции исследования и анализ проектов адаптивного повторного использования строятся вокруг следующей гипотезы:
атмосфера, или «память места» позволяет архитектору более полно понять контекст существующего пространства и через формальное выражение в новой проектируемой среде установить гармоничный диалог между существующей и проектируемой архитектурой.
изображение из 3-ей главы: «диалог материалов» интерьера церкви Виланова-де-ла-Барка, Лерида, Испания, 2016 год, архитектурное бюро «AleaOlea arch & landscape»
Структура исследования основана на анализе наиболее репрезентативных проектов адаптивного повторного использования в мировой практике. Так как процесс адаптивного повторного использования мыслится как метод, объединяющий сущностный и формальный подходы, он может быть применён ко всем элементам предметно-пространственной среды. По этой причине исследование строится от общего к частному: от среды вокруг здания через «тело» здания к пространству внутри него.
Выводы, полученные в результате исследования, будут практически полезны при работе над проектом адаптивного повторного использования редюита «Астрономического бастиона» в Калининграде с комплексным благоустройством прилегающей территории в рамках работы над ВКР, а реальные исследованные проекты и их подробный анализ станут мануалом для обращения в будущей архитектурной практике.
Источники изображений даны в порядке упоминания в главе:
https://i.archi.ru/i/343686.jpg (дата обращения 5.11.23)
https://i.archi.ru/i/343696.jpg (дата обращения 5.11.23)
https://images.adsttc.com/media/images/5cb5/e60b/284d/d16d/f700/0086/slideshow/08.jpg?1555424769 (дата обращения 24.10.23)
https://landezine-award.com/wp-content/uploads/2019/04/Connection-Bridge-15.jpg (дата обращения 10.09.23)
статья Самии Раб «Carlo Scarpa’s Re-design of Castelvecchio in Verona, Italy», 1998 URL: https://clck.ru/36X7dk [с. 445] (дата обращения 05.09.23)
статья Самии Раб «Carlo Scarpa’s Re-design of Castelvecchio in Verona, Italy», 1998 URL: https://clck.ru/36X7dk [с. 445] (дата обращения 05.09.23)
статья Самии Раб «Carlo Scarpa’s Re-design of Castelvecchio in Verona, Italy», 1998 URL: https://clck.ru/36X7dk [с. 445] (дата обращения 05.09.23)
статья Самии Раб «Carlo Scarpa’s Re-design of Castelvecchio in Verona, Italy», 1998 URL: https://clck.ru/36X7dk [с. 445] (дата обращения 05.09.23)
https://insideinside.org/wp-content/uploads/2016/04/120709_Scarpa_Castelvecchio_PlanS.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://www.archiobjects.org/wp-content/uploads/2015/01/castelvecchio-museum.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://www.archiobjects.org/wp-content/uploads/2014/04/IMG_4582_edited.jpg.JPG (дата обращения 05.09.23)
https://www.archiobjects.org/wp-content/uploads/2014/04/IMG_4560_edited.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://picturepark.cdn.herzogdemeuron.com/v/OJy0OHO8/ (дата обращения 21.09.23)
https://portulan.ru/wp-content/uploads/2020/01/City_Europe_079_preview.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://corbusier.totalarch.com/files/project/087/001.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://corbusier.totalarch.com/files/project/087/002.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://corbusier.totalarch.com/files/project/087/005.jpg (дата обращения 05.09.23)
https://www.enota.si/mma/enota_ptuj_performance_center_15_staircase___archaeology.jpg/2016072116244698/org/ (дата обращения 5.11.23)