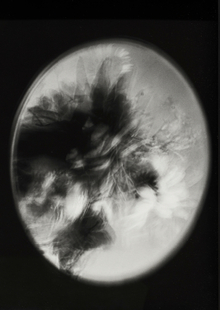Альбедо
Это и есть философская сублимация, с помощью которой достигают идеальной белизны. Потому её и уподобляют женской работе: стирать до белизны, варить и жарить до готовности.
Splendor Solis, Трактат IV
Дизайн как производство мертвецов
Подведём итог. Наша книга есть документация алхимического нисхождение в нигредо — онтологической работы с темнотой, неопределённостью и становлением. Настало время заглянуть на пенную вечеринку альбедо, где, на что мы и уповали в главе «Чёрная пена», каждый объект прозрачен и светел, его таинственная четвероякость лопнула, и теперь чувственное реально, а реальное чувственно, субстанция и акциденция отождествились и сделались процессуальны, и все глаголы осуществились, и пахнет мылом (что, однако, не означает конца работы).

Долгое время — с момента своего рождения в на рубеже XIX–XX вв. — дизайн (точнее, то, что мы сегодня называем этим словом) был модернистским театром устойчивой формы под руководством автора-демиурга.
Предполагалось, что в каждом артефакте живёт неизменный дух идеальной субстанции, и задача дизайнера сводилась к тому, чтобы аккуратно вылепить этот идеал из тугого пластилина материи и зафиксировать навсегда. Например, в Баухаусе нередко искали эссенциальный принципы формы и цвета — что отражало веру в некоторую стабильную онтологию визуальных элементов. Продукт мыслился как законченное произведение, существующее затем в относительно неизменном виде: стул изготовлен — и стоит на своём месте. На него можно сесть, его можно «технически вопроизводить» [Беньямин], отчуждать и транслировать, но его нельзя менять и ре-интерпретировать, так как это будет преступлением против эссенциалистского идеала «стульности» — в лучшем случае, ошибкой или недоработкой.

Борис Гройс замечает, что музеификация любого объекта, изъятие его из Dasein’а и заключение в стеклянный гроб музейной витрины, его умерщвляет. Но кажется, объект умирает раньше — как только он признан «готовым», ибо в это мгновение он выключается из потока становления; в этом смысле начало любого практического использования артефакта есть его музеификация. Именно принятие формы и функции как окончательных и нерушимых субстанций означает смерть их творческого потенциала.
Итак, модернистский дизайн был мертворождением.
Как только умер автор, вещи ожили
Смерть автора, как известно, констатировал в 1967 году Ролан Барт в одноимённом эссе. Конечно, на самом деле автор не умер, а просто упал в реку собственного текста и стал одним из многих плывущих по ней актантов, пациентов и эмерджентных турбулентностей. Иногда его голова появляется на поверхности, но он больше не хозяин ситуации.
Постмодернистское творческое производство — принципиально открытая, итеративная деятельность (даже если декларируется обратное), а эссенциалистские представления модерна о закрытом союз подвергаются деконструкции и даже деструкции. Современный дизайнер — сообразно латуровской акторно-сетевой перспективе и агентному реализму Барад — всё чаще понимается не как демиург, а как настройщик и в то же время участник системы: он — один из узлов сети людей, инструментов, материалов, культуры, контекстов, языка. В такой системе нет иерархии, отделяющей главное от второстепенного; вместо этого каждый актант вносит свой вклад и обладает суверенной агентностью:
Ты говоришь кирпичу: что тебе нужно, кирпич? А кирпич говорит тебе: мне нравится арка. А ты отвечаешь кирпичу: послушай, арки — это дорогое удовольствие, я могу поставить над вами бетонную перемычку. Что думаешь? А кирпич снова: мне нравится арка. Важно, чтобы вы уважали материал, который используете. И вы можете сделать это, только если чтите кирпич и прославляете кирпич, и не обмениваете его ни на что другое.
Луис Кан
Луис Кан Индийский институт управления, Ахмадабад, Индия 1962
Конечно, любой ответ на вопрос «чего хочет объект» — это, как говорит А. Иконников, фантазм, бессознательный сценарий, образ-желание, «прямой ответ на изъятость объектов… на их фундаментальную сокрытость». В лакановском понимании фантазм — это карта, позволяющая субъекту ориентироваться в загадочном. Фантазм, перенесённый в художественное измерение, — это творческое воображение, которое не просто свободно мечтает, а «пред-интерпретирует возмущения, приходящие от реальности, превращая их в осмысленные образы». Наш миф о чёрной пене как хаотическом субстрате потенциальности — хороший пример: мы создаём свою фантазмологию в ответ на сокрытость объектов. Любое фантазмирование, тем самым, есть «процедура познания того, что могло бы быть, если бы нас не было» — того, как бы сложились кирпичи, дай им Луис Кан полный карт-бланш.
Кирпич хочет арку, но мы никогда не можем быть уверены, что правильно его поняли. Как отмечает Харман, любой доступ к объекту всегда карикатурен. В этом смысле фантазм является не только картой, но и своего рода онтологической неизбежностью — мы обречены создавать карикатуры на кирпичное желание.
На уровне практики это означает отказ от предсказуемости: результат дизайна эмерджентен и рождается из взаимодействия множества факторов. Например, когда элементы графической композиции резонируют друг с другом контингентно, поперёк и помимо авторского намерения, и это резонанс не точечный, а систематический и процессуальный — то это не только констатируется, но и приветствуется.
В проектном мышлении такая процессуальная установка приводит к новым практикам: например, генеративный дизайн (использование алгоритмов для создания графики) возникает не из головы автора-демиурга, а как сгущение и результат процесса (работы алгоритма). Здесь ценится итеративность (то есть признание, что истина не предшествует проекту, а вырабатывается через цикл проб и ошибок) и эмпатия (вчувствование в пользователя — т. е. сознательное включение себя в отношения с Другим). Всё это роднит постмодернистский дизайн с процессуальной философией.
Живые кирпичи Луиса Кана тут засвидетельствуют витальность постмодернистского подхода в сравнении с мертвящим модернистским.
Живое + мёртвое = живое
Не хочется говорить о метамодернистском синтезе первого и второго, потому что, по нашим ощущениям, само слово «метамодернизм» дискредитировано: по большей части оно означает сейчас реваншистские попытки вернуть в искусство мертвящий суверенитет автора — слабого, неумного, одержимого ресентиментами и другими грехами, но самоуверенного.
Поэтому будем говорить о «странном реализме» [Харман] гибридных явлений. Где их можно сейчас обнаружить, так это в дизайне интерфейсов: здесь конечный продукт — это фактически опыт пользователя во времени; дизайнеры говорят о «пользовательском пути», сценариях взаимодействий — это явно процессуальный подход. Но при этом они разрабатывают дизайн-системы, то есть устойчивые наборы компонентов (элементов, то есть объектов — и стилей, то есть их качеств) — субстанций со стабильными свойствами, которые сохраняются в разных контекстах использования.
Многообразие применения дизайн-системы Material You ©Google
Когда приходит время релиза, дизайнер говорит о некоем итоговом решении как о целом, тем самым фиксируя результат как объект — но временно, так как стабильные сущности (UI-компоненты) оживают: включаются по заданным сценариям в процессы взаимодействия с пользователями, где агентность дизайнера-автора ограничена, а сам продукт постоянно дорабатывается по итогам опыта использования и обратной связи. Каждое действие в этой цепочке есть возмущение, выводящее творческую систему из гомеостаза до тех пор, пока не установится очередная временная консистенция. Дизайн цифрового продукта, таким образом, учитывает оба аспекта, снимая их оппозицию: стабильность и изменение, сущность и событие, субстанцию и процесс.
Цифровой дизайнер действует скорее как модератор: он создаёт условия, направляет, но позволяет проекту самоорганизовываться, причём не только на основаниях исключительного добрососедства и сотрудничества, но и порою в конфликте — представьте себе алхимика, который впервые смешивает неизвестные реактивы, чтобы узнать, что получится — а ведь может получиться фейерверк («Рванёт! — Не должно»).
Выходит, что концепция «анарх-акторной композиции» или, иначе, «нигредо-проектирования», которую мы вводим в книге, описывает именно такую, как в цифровом дизайне, ситуацию: нет никакого единого организующего начала, композиция формируется множеством сложных отношений в общем пространстве, где каждый элемент двуедин — он и автономный объект с внутренним потенциалом, и участник раскрывающегося во времени взаимодействия. Этот дуализм отражает синтез субстанциального и процессуального: элемент имеет неприкосновенное ядро автономии (его нельзя полностью произвольно изменить, у него есть свои свойства) — и одновременно его чувственные качества вступают в отношения с окружением, создавая целостную структуру. Это значит, что у объектов дизайна есть тёмное хармановское нутро, онтологический избыток, «вулканическая мощь» (по выражению Александра Иконникова), не подвластная автору, — и есть поверхность, которая проявляется лишь во взаимодействиях.
Здесь-то и начинается наш алхимический фокус с превращением процессов в субстанцию и обратно, а пузырёк нашей чёрной пены выворачивается наизнанку и белеет. Иконников добавляет: объект не просто существует автономно — он представляет собой систему, «автопоэтическую клетку» или, если угодно, запертый изнутри театр, наполненный странными актёрами, которые разыгрывают в нём свои громокипящие драмы. То есть объект и процесс превращаются друг в друга: субстанция есть сгущённый процесс, а процесс — это развёртывание субстанции.
Вспомним про аллюр — это забавное слово Харман придумал, чтобы объяснить, как объект может одновременно себя и показывать, и не показывать — он кажется состоявшимся и ясным, но почему-то не оставляет в покое, мерцает на границе бытия и не-бытия, реальности и кажимости. Это и есть аллюр — то самое мерцание, которое позволяет почувствовать процесс внутри стабильной формы. Такой объект — холодный медиум в терминологии Иконникова (и Маклюэна, конечно же): от холода он так съёжился, что освободил лакуны для зрителя. Глядя на такой знак, вы не потребляете готовое означаемое, а участвуете в создании «феноменологического смысла» — это и есть процесс внутри субстанции внутри процесса (причём сама эта вложенность странна и подвижна).
В чём же философский смысл этого трюка? В том, чтобы проектирование наконец-то перестало быть искусством стабилизации и превратилось в искусство нестабильности. Художник, который умеет видеть мир как сеть вложенных друг в друга объектов и процессов, становится алхимиком повседневности, медиумом бытия и не-бытия, проводником между формой и бесконечными метаморфозами.
Таким образом, наш путь через нигредо завершается в бесконечной осцилляции между субстанцией и процессом, контролем и эмерджентностью, материей и смыслом, ясностью и тайной. Красота альбедо не в том, что добела отмыто чёрное, а в том, чтобы в нём увидеть свет, — настолько яркий, что переживается как тьма: мы смеживаем вежды, и ослепительный мир сквозь наши наполненные кровью веки мы видим красным. В алхимии это называется «рубедо», и это конец работы. Но это потом.