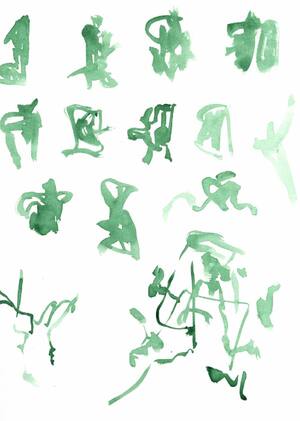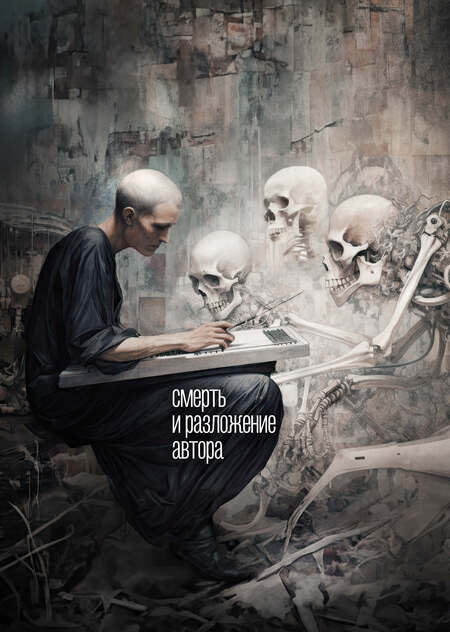
Смерть и разложение автора
Введение
Заголовок этого текста, «Смерть и разложение автора» — довольно очевидная шутка, но позже я на всякий случай объясню, в чём её соль.
Пока философы и ИИ-эксперты озабочены экистенциальными и даже эсхатологическими последствиями стремительного взлёта ИИ, людей «творческих профессий» больше волнует вопрос, болезненный прежде всего для авторского самолюбия: кого следует считать автором, если речь идет об эстетически значимом контенте, произведённом с помощью тех или иных технологий искусственного интеллекта? Впрочем, помимо тщеславия, вопрос этот порождается и другими пороками: например, унаследованным от предков антропоцентризмом и происходящими от него специистской гордыней и эпистемологической аррогантностью.
Это проблема, конечно, не столько философская, сколько практическая. Например, использование ИИ выводит нас из зоны действия регулирующих конвенций и нормативов, касающихся аттрибуции и интеллектуальной собственности, а в отсутствие правил человек всегда чувствовал себя потерянным. Академические интеллектуалы, в частности, только начинают осмыслять ситуацию [8].
В моём тексте, говоря об ИИ, я буду иметь в виду прежде всего компьютерные технологии, хотя, конечно, искусственным интеллектом можно считать и игральную кость: бросая кубик, мы в каком-то смысле эмулируем волеизъявление живого человека, который уверен в своей полноценной агентности, хотя на его решение могло повлиять что угодно — от внезапного физиологического эксцесса до случайно подслушанной на улице фразы.

Простейшая система искусственного интеллекта
Разновидностей творческой работы с разными медиа множество, но я, из соображений удобства, буду здесь говорить о поэзии. Стихосложение — это работа, и для неё нужны инструменты. Чистое, невооружённое стихосложение возможно лишь внутри головы стихотворца — правда, в таком случае его текст никто никогда не услышит и не прочтёт.
Тут можно вспомнить известную берклианскую шутку «Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет?» и корреляционистский ответ на неё: «Звук — это воздушные вибрации, доступные нашему восприятию через органы слуха, а значит, если не будет ушей, чтобы слышать, то не будет и звука». Если следовать этой логике, пока стихотворение не прочли, оно не существует. Точнее, оно подобно коту Шредингера и пребывает в состоянии суперпозиции, одновременно существуя и не существуя, пока его не прочтут. Чтобы произошёл «коллапс волновой функции», и стихотворение получило бытие, став сообщением, нужен медиум: язык, голосовые связки, письменность, гусиное перо, печатный станок, компьютер, интернет, ChatGPT — всё это элементы одного списка.
Инициализация переменных
Прежде чем продолжить, обозначу некоторые ключевые термины. Я далёк от того, чтобы давать сложным вещам точные определения. Скорее сейчас мною будут проведены операции присваивания значений трём переменным.
Децентрализация авторской субъектности
Искусственный интеллект = «машинное моделирование человеческих когнитивных процессов, которые включают обучение, рассуждения, решение проблем, восприятие и понимание языка».
Поэзия = «форма литературы, которая использует ритмические, фонетические, синтаксические и другие чувственно воспринимаемые качества языка, чтобы вызвать приращение смысла за пределами „протокольного высказывания“».
(Выражение «протокольное высказывание» я беру в кавычки, так как это тоже философский термин из арсенала логических позитивистов, означающий непосредственную и непреложную запись опыта или наблюдения, например, неоспоримого факта: «вы сейчас читаете этот текст»).
Децентрализация авторской субъектности = «концепция, означающая отказ от взгляда на автора как на единственный, централизованный источник смысла в тексте». Вместо этого смысл рассматривается как децентрализованный, возникающий в результате взаимодействия текста с читателями, культурным контекстом, нечеловеческими акторами, в частности, в нашем сегодняшнем случае, с искусственным интеллектом.
Медленно входит автор
Нету никого
В древности понятия автора в сегодняшнем понимании не существовало. Тексты часто приписывались божественному вдохновению или коллективной мудрости, а не индивидуальному гению. Гомер? Но кто стоит за этим именем, один поэт или целый хор голосов? Илиада и Одиссея могли быть написаны самими богами, если бы мы не знали их земного автора (или авторов).
В Средние века фигура автора начинает уплотняться, но всё ещё не занимает центральной позиции. Тексты в основном анонимны или псевдонимны, и их авторитет скорее происходит из связи с определенной религиозной или философской традицией, а не с репутацией конкретного человека. Монахи в скрипториях переписывают книги, не задумываясь о личной славе, и если, например, случается то, что у библеистов-текстологов потом получило название «позднейшая благочестивая вставка», то вряд ли скриптора тут мотивируют честолюбие, боязнь показаться неоригинальным или экзистенциальная тоска. Монах-переписчик поэтому, в частности, свободен от кошмара современного писателя — писательского блока.
Смотрите, кто пришёл
Часто встречается псевдоэпиграфика: например, «Ареопагитики» приписывались ученику апостола Павла, первому епископу Афин св. Дионисию Ареопагиту, воспринявшему мученический венец в Галлии конце III века н. э., тогда как, скорее всего, этот текст появился на триста лет позже, и автором его был неизвестный человек, которого называют «Псевдо-Дионисий», но по ряду религиозных причин было удобнее считать, что это тот самый Сен-Дени де Пари, которого обезглавили на вершине Монмартра.
В эпоху Возрождения происходит сдвиг в направлении признания индивидуальных авторов. Изобретение печатного станка и набухание идеологем гуманизма этому способствуют. Автор становится фигурой самотождественной и незаменимой. Появляется понятие интеллектуальной собственности.
В период классицизма (XVII–XVIII вв.) понятие авторства всё ещё в первую очередь связано с идеей следования установленным нормам. Автор — ремесленник, преуспевший в искусстве языка и риторики, и его работа хороша настолько, насколько она соответствует классическим идеалам.
Добро пожаловать в «Клуб 27»
Каспар Давид Фридрих. Поэт и чемодан (холст, масло, 2023)
В эпоху Просвещения (XVIII в.) акцент начинает смещаться с сооответствия образцам на оригинальность, и, наконец, романтический период (конец XVIII в. — середина XIX в.) знаменуется революционным сдвигом: теперь автор — герой, полубог, прекрасный и возвышенный, предстоящий стихиям, ещё более прекрасным и возвышенным, маг, шаман, Прометей и так далее. В XX веке мы наблюдаем тот же образ в фигуре «рок-звезды», «проклятого поэта», который был большим оригиналом, много ходил над безднами и оттого рано умер. Ирония, конечно, заключается в том, что в поисках оригинальности мы топчем давно проторённые до нас тропы.
Пожалуй, именно романтики вручили нам этот «чемодан без ручки», который нести тяжело, а бросить жалко, — авторство как концепт. В 2023 году мы, прислушавшись, обнаруживаем, что внутри чемодана что-то тикает — возможно, это бомба с часовым механизмом.
Смерть короля Автора
Название эссе Ролана Барта «Смерть автора» (1967) наводит на мысли о заключительном произведении артуровского цикла, написанного Томасом Мэлори в во второй трети XV века — The Dethe of Arthur. Культурный образ самого сэра Томаса сложился в викторианскую эпоху и вполне воплощает романтические представления о писателе-трикстере — разбойник, налётчик, вымогатель, заговорщик, насильник и конокрад, многократно заключённый в узилище и успешно бежавший. Мы не знаем, как было на самом деле, но романтический контекст, вероятно, усилил некоторые детали.
Ролан Барт убивает Автора
Смерть короля Артура знаменует конец эпохи рыцарства — это был переход от мифологического мира к реалистическому, от героизма к обыденности. Барт, констатируя «смерть автора», в действительности не убивает его, но лишь декоронует и детронизирует: во второй половине XX века автор более не суверенный монарх и не высшая инстанция, определяющая смысл текста [1]. Текст — это многомерное пространство, в котором смыслы создаются не авторским намерением, а появляются в тот момент, когда их обнаруживает читатель. Биография автора, его личные убеждения, желания, пороки, зависимости — не имеют значения. Смысл текста — это групповой проект взаимодействия между субъектом письма, читателями, самим языком и всей культурой в целом. Читатель приобретает настоящую агентность и не только считывает (или вчитывает) смыслы, но и активно участвует в их создании.
Представим себе книжный клуб, куда не приглашен автор. В 2023 году об этом с прекрасной самоиронией написал поэт Виталий Пуханов:
Нас не интересует, в каких обстоятельствах вы написали свой текст. Нам важно, в каких обстоятельствах мы прочитали ваш текст. Нас не интересует, что вы хотели сообщить в тексте. Нас интересует, что мы прочитали в вашем тексте. Нам не интересны вы и ваш текст, Но так сложились наши обстоятельства, что мы прочитали ваш текст. И теперь это наш текст. Мы обязательно поручим какому-нибудь студенту вникнуть в ваши обстоятельства. Но потом, потом и без вашего уже присутствия.
«Потом и без вашего уже присутствия»
Концепция Барта близка постструктуралистскому подрыву идеи фиксированного семиозиса и стабильных идентичностей. Конечно, забавно, что сам Барт стал авторитетом, и его слова сегодня вызывают то же благоговение, против которого он выступал. Но такова природа философских идей — они, как и любые тексты, живут собственной жизнью.
«Смерть автора» — не просто теоретическая констатация; это фундаментальный поворот в том, как мы взаимодействуем с искусством. В мире, где тексты могут быть переосмыслены, переинтерпретированы и даже переписаны читателями, а значит, никогда не завершаются, но пребывают в неиссякающем потоке становления, искусство становится инклюзивным: каждый читатель — соавтор. Возможно, ещё большая ирония заключается в том, что, убив Автора, Барт дал жизнь бесчисленным новым авторам. Это мы и называем децентрализацией авторской субъектности, и теперь всем должен быть понятен смысл шутки, содержащейся в названии этого моего текста: автор разложился. «Рассыпалось слово на иглы и тонкую жесть».
Евхаристия — таинство бесцарствия
«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»
Гипотетический литературный процесс в лабораторных условиях радикальной децентрализации авторского субъекта (то есть если пренебречь искажениями, происходящими от индивидуальных амбиций и ресентиментов) был бы сродни литургическому богослужению, евхаристии, трапезе благодарения, общинному пиру, на который каждый приходит со своим приношением: автор приносит хлеб текста, читатель — вино своих интерпретаций, культурный контекст добавляет приправу, а интертекстуальная природа языка сама по себе является секретным соусом, который связывает всё вместе.
Это напоминает принцип «царственного священства» в христианстве, где все верующие священнодействуют «едиными устами и единым сердцем» — в отличие от других религиозных традиций, где религиозная агентность сосредоточена в фигуре жреца, имеющего особый метафизический статус и вследствие этого привилегированный доступ к Божеству. В литературной литургии нет ни царя, ни первосвященника — все участвуют в создании и интерпретации смысла, образуя «царственное священство» читателей. Мы не в ресторане, где нас отделяет от кухни «четвёртая стена», а скорее на вечеринке вскладчину.
Тоннель Барт—Метцингер
Деконструкция роли автора, предложенная Роланом Бартом, открывает портал в мир, где текст — это многосоставная живая сущность, симбиотический клубок, в котором сплелись автор, читатели, язык, медиа и вся культура в целом. Но что если пойти ещё дальше? Что если автор не только децентрализован, но и отменён как самость?
Описывая наш ментальный процесс, немецкий философ Томас Метцингер ставит под сомнение привычное представление о субъекте, который контролирует производство своего внутреннего ментального нарратива [6]. Вместо этого Метцингер предполагает, что большая часть когнитивной обработки происходит ниже уровня нашего сознания, то есть мы никогда по-настоящему её не контролируем, и это должно быть хорошо понятно всякому, кто когда-либо писал и терял контроль над письмом: «И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно потекут»[7], потекут сквозь пальцы, и ничего с ними не поделаешь.
Литературный процесс по версии А. С. Пушкина
«Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, — продолжает Пушкин, — но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны; громада двинулась и рассекает волны. Плывёт. Куда ж нам плыть?..» [7]. Мы видим, как лирический субъект в оцепенении наблюдает за чудовищным копошением лавкрафтианской морской живности — мысли волнуются, рифмы бегут, пальцы просятся, стихи текут, матросы вдруг кидаются, ползут, громада двинулась и рассекает волны. Метцингер же уподобляет наши мысли дельфинам, которые лишь ненадолго выпрыгивают из океана бессознательного, чтобы снова погрузиться в него, потому что вода — их родная стихия, а того маленького человечка-наблюдателя, которого мы привыкли принимать за «картезианского субъекта», то есть стабильного и независимого суверена, родителя и руководителя своих мыслей — вероятно, уже смыло волной [13].
Барт предпринимает деконструкцию унарного, контролирующего субъекта в плоскости языка и культуры. Делёз и Гваттари продолжают эту работу в области социального. Метцингер, вооружившись вместо философской аргументации нейробиологией, с тем же намерением вторгается уже в фундаментально онтологическое — и сокрушает картезианского субъекта на его территориях: сознание предоставляет мне доступ лишь к небольшой части моего умственного процесса, а большая часть когнитивной активности недоступна — так стены тоннеля, по которому движется наблюдатель, скрывают от него внешний мир. Этот тоннель узок, и ментальные события выстраиваются для меня в линейную очередь, и оттого кажутся одномерной цепочкой логических импликаций, когда каждая следующая мысль кажется обусловленной предыдущей. Тогда как в действительности сеть обусловленностей сложна и гетерогенна, и это подтверждается экспериментально — например, путём наблюдения за активностью нейронов разных отделов мозга.
Томас Метцингер в тоннеле эго
Мышление есть непрестанная и неуправляемая пересборка сети краткоживущих нарративов, которые описывают реальность — как объективную, так и субъективную. В центре этой паутины находится сложносоставной образ меня самого, конструируемый из телесных ощущений, психологических состояний, темпоральности (ощущения прошлого, настоящего, будущего), всего набора входящих сенсорных данных, воспоминаний и целенаправленных действий и мыслей, а также отношений с другими сознающими существами. Моя модель мира Эго-центрична — в её центре находится автореферентная «Я-модель» (ФМС, «феноменальная модель себя», как называет её Метцингер), наполненная всем перечисленным как прозрачный сосуд — смесью разных жидкостей. Эго-коктейль, то есть то, что мы называем словом «я», в этом стакане плещется лишь тогда, когда это нужно организму; когда «я» не нужно (например, в медленной, без БДГ, фазе сна) — стакан пуст.
Если у Барта так называемый «автор» — это не сущность, а процесс, сложное взаимодействие культурных влияний и читательских интерпретаций с волей и действием всё ещё непрозрачного, суверенного скриптора, то Метцингер десубстантивирует и самого скриптора — у него нет никакого стабильного, консистентного «я», но лишь клубящийся ассамбляж неконтролируемых бессознательных эксцессов, провалов внимания, «блужданий ума», непрошенных воспоминаний, обрывков своей и чужой речи, машинального планирования, социальных («маккиавелианских», по выражению Бирна и Уайтена [12]) вычислений. Нет целенаправленных действий — есть лишь поведение, которое только кажется контролируемым, тогда как за ним нет полноценной агентности. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» [Рим 7:19–21], с печалью отмечает апостол Павел. «Здесь объясняется необретение в себе делания добра», добавляет в своём толковании свт. Феофан Затворник [10]; Метцингер назвывает это «потерей ментальной автономии».
First Person Specter
Децентрализация Тэда Бомона
Дилан Тригг — современный философ второй волны спекулятивного реализма. Он озабочен обновлением феноменологической традиции, пересобирая её как не/человеческую (в оригинале — unhuman: это слово звучит как указание на конфликт человеческого и нечеловеческого, подконтрольного и безудержного — во едином существе). Для Тригга главным экзистенциалом человека становится ужас — не аффект страха, а эпистемологическая интуиция: не только ужас перед Внешним как Иным, но, в первую очередь, ужас переживания самого себя как Другого (или даже как Чужого) [9]. Радикальное недоверие к «фундаментальной модели себя», к своему «эпистемическому агенту», к «виду от первого лица».
В замечательном романе Стивена Кинга «Тёмная половина» протагонист, писатель Тэд Бомон, вынужден делить свой мозг с неприятным соседом, Джорджем Старком — своим литературным альтер-эго и одновременно тератомой, близнецом-паразитом, которого Тэд поглотил ещё в материнской утробе. Старк агрессивен, витален, мстителен и пассионарен; он почти перехватывает управление, но в последний момент появлется стая воробьёв-психопомпов, которые окончательно его децентрализируют [5].
Децентрализация Джорджа Старка
Когда мы говорим об авторской интенции («что хотел сказать автор?») или о том, чтобы сообщить читателю что-то конкретное, предполагается, что мы знаем и автора, и читателей. Но насколько это возможно? Человеческая способность контролировать письмо и чтение ограничена, а индивидуальный опыт — отчуждён и неописуем. Автор, закончивший текст, это уже не тот человек, перед которым когда-то лежал чистый лист; читатель, который этот текст прочёл, изменился по сравнению с тем, кем он был в начале чтения.
Таким образом, Тригг вводит новую переменную — Чужой во мне. Если я его не понимаю и не контролирую, то и оснований надеяться на предсказуемый результат моего высказывания у меня быть не может.
«Воробьиная, истошная, оскаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне»
Итак, в нашей литературной литургии участвует, помимо названных Бартом скриптора и читателя, множество самых разных акторов, в том числе сидящих внутри и скриптора, и читателя — и в том числе, таких, которые не дают нам никакого опыта их чувственного восприятия. Среди них — язык и культура, электрохимические процессы в моих нейронах, живущие в моём теле микроогранизмы, валяющиеся без дела после очередной пересборки «феноменальной модели себя» детальки, ну и грех, о котором пишет Павел. Впрочем, кажется, тут придётся назвать все объекты Вселенной, так что на этом я перечисление оборву.
Много окон и дверей, нету в горнице людей
Так называемое «поэтическое высказывание» есть, вообще говоря, высокоорганизованная система, которая имеет намного более сложную внутреннюю конституцию, чем речь обыденная, поскольку содержит внедрённые в тело текста избыточные измерения (ритм, строфика, графика, рифмы — фонетические, синтаксические и семантические и так далее), которые не связаны с прагматикой бытового говорения или письма. Этими излишествами обусловено функциональное богатство поэтического высказывания, которое — по сравнению с так называемым «протокольным предложением», описывающим непосредственный опыт, — способно стать инструментом познания, помогающим нам понимать (принимать в интеллектуальный удел) и осмыслять (наполнять смыслами) реальность не только чувственно воспринимаемую, но и недоступную непосредственному наблюдению. «Границы моего языка означают границы моего мира», писал Витгенштейн: присущее поэзии «сближение идей далековатых», по выражению М. В. Ломоносова, есть сопряжение означающих, которое иногда помогает выявить неочевидную связь между означаемыми реальными объектами. Или даже создать новые связи.
Сближение идей далековатых
Поэт Юрий Смирнов назвал поэзию «машинкой космической радости», и это очень делёзианский образ, напоминающий о самом начале «Анти-Эдипа»: «Оно функционирует повсюду, иногда без остановок, иногда с перерывами. Оно дышит, оно греет, оно ест. Оно испражняется, оно целует. Но какое заблуждение говорить о нем как о чем-то одном и определенном. Повсюду — машины, и вовсе не метафорически: машины машин, с их стыковками, соединениями. Одна машина-орган подключена к другой машине-источнику: одна испускает поток, другая его срезает» [4]. Вселенная-хаосмос конституируется желающими машинами Божественного эроса и их сборками, производимыми ими потоками и прерывающими эти потоки срезами, а поэзия есть параллельное документирование производимого при этом стрекотания и клёкота.
Стихотворение, вид изнутри
Можно сравнить прозаический текст со зданием, где есть только один способ перейти из комнаты в другую (через дверь) или с этажа на этаж (по лестнице). Тогда текст поэтический окажется чем-то вроде уровня в компьютерной игре с открытым миром: повсюду полно неочевидных лазеек или порталов, позволяющих освоить это пространство множеством разных способов, причём каждый из вариантов прохождения картографирует его уникальным образом: территория одна, а карт — много.
Чтобы речь обладала таким уровнем организации, необходима высокая ментальная дисциплина, которая недоступна большинству из нас, потому что в той или иной мере все мы склонны к умственным блужданиям, о которых пишет Метцингер.
Тут возможны разные стратегии письма, но все варианты располагаются на условной струне, натянутой между двумя крайними точками.
Одна крайность — радикально самоумалиться, истончиться до прозрачности, полностью отпустив авторский контроль и позволяя структурам языка (и другим нечеловеческим акторам) порождать тексты самостоятельно. Барт назвал бы это «нулевой степенью письма»: скриптор устраняет из процесса всё, кроме собственно записывания, и просто наблюдает за тем, что получается.
Лирический субъект Пушкина из процитированной выше «Осени», по-видимому, именно таков. Карл Густав Юнг называл такое искусство «экстравертным»:
»…произведения, которые свободно вытекают в более или менее законченной форме из-под авторского пера. Они возникли, как будто были уже завершёнными для появления в мире, как Афина Паллада, вышедшая из головы Зевса. Эти произведения, очевидно, овладели автором; его рукой водят, а перо пишет нечто, на что он смотрит с нескрываемым удивлением. Произведение несет вместе с собой свою особую форму; всё, что автор хочет добавить, отвергается, а то, что он сам пытается отбросить, возникает вновь. В то время как сознательное мышление стоит в стороне, пораженное этим феноменом, автора захлестывает поток мыслей и образов, которые он никогда не имел намерения создавать и которые по его доброй воле никогда бы не смогли обрести существование… Он только может подчиниться этому явно чуждому внутреннему импульсу и следовать туда, куда он ведет, ощущая, что его произведение больше его самого и обладает силой, ему не принадлежащей и неподвластной. Тут автор уже не идентичен процессу творения; он осознает, что подчинен работе и является не её руководителем, а как бы вторым лицом; или как будто другая личность попала вместе с ним в магический круг чужой воли» [11].
Юнг и Филемон (воображаемый друг и наставник, который появился у Юнга во время глубоких рейдов в бессознательное. В «Красной книге» изображался в виде белобородого крылатого старика)
Вторая крайность — найти способ хотя бы частично компенсировать «умственные блуждания» и попытаться взять командование над процессом письма. Юнг пишет об этом («интровертном») творческом модусе так: «Есть литературные произведения — и прозаические, и поэтические, в точности соответствующие замыслу автора достичь некоторого конкретного эффекта. Он подвергает свой материал определённой обработке, преследуя вполне отчётливую цель; кое-что добавляет, что-то убирает, акцентируя одни моменты и затушёвывая другие, добавляя пару мазков там, немного здесь, внимательно следя за общим эффектом и отдавая должное требованиям формы и стиля. Он очень внимательный и строгий судья, выбирающий слова с абсолютной свободой. Его материал полностью подчинен художественной цели; он хочет выразить именно это, и ничто другое» [11].
Метцингер показывает, что это невозможно: нет никакого ментального командира, есть только ощущение агентности (sense of agency): «иллюзия, что мы персонально направляем собственные действия; что мы тот, кто спланировал акцию, принял решение о выполнении и осуществил её» [13]. Юнг, конечно, в контексте своего аналитического нарратива не готов расстаться с концептом «Я», но проницательно предполагает, что интровертный художник «абсолютно един с творческим процессом, независимо от того, сам ли он стал у него во главе, или же процесс сделал автора своим инструментом таким совершенным образом, что он этого и не осознал» [11].
То есть гарантированно эффективных технологий контроля над своими мыслями и письмом не существует. Однако, вероятно, можно так организовать своё письмо, чтобы просто не мешать: не мешать тексту писаться, не мешать читателю вчитывать смыслы и так далее. С другой стороны, именно вера в том, что я могу тут хоть что-то организовать, становится клеем, консолидирующим мою рассыпающуюся «Я-модель», а это полезно для здоровья и выживания. Если автор одновременно и везде, и нигде, если «я» — это и конструкт, и реальность, то письмо становится самоисследованием и самосозиданием, и поэзия — аутопоэзисом.
I:> defrag I: /O
Вероятно, у каждого, кто однажды открыл для этот особый способ быть-в-мире — через производство потоков текста — и вследствие этого более или менее систематически пишет стихи, сложились те или иные привычки работы с речевым материалом. Некоторые об этом рассказывают охотно, другие — не очень: это уже вопрос социального темперамента. Но я полагаю, что если я тут расскажу о своём опыте, то это может стать в каком-то смысле иллюстрацией к сказанному выше.
Когда я регулярно занимался целенаправленным стихосложением, то моя «версификационная технология» чаще всего состояла в том, чтобы обсессивно накапливать в секретном блокноте bons mots, удачные образы, каламбуры и пр. с тем, чтобы при наборе достаточной суммарной массы они почти помимо моего участия, сами сложились в связный текст. Потом оставалась чисто техническая работа по синтаксической и фонетической организации получившегося продукта — и много-много радости от того, что «язык говорит нами». Однако любые попытки форсировать такую интеграцию, то есть искусственно собрать из разрозненных деталей работающий текст, как правило, не увенчивались успехом либо приводили к результатам, которые мною самим ощущались как ужасная фальшь.
Так уж сложилось
Смыслы обыкновенно возникали уже потом сами и зачастую бывали для меня не только неожиданным, но и порой переворачивающим мировоззрение откровением. Таким образом, позволяя фрагментам речи автономно собираться в ассамбляжи, я как бы выносил вовне — делегировал языку — внутреннюю работу по дефрагментации «Я-модели», о которой пишет Метцингер. По-видимому, язык уже содержит все скрытые связи между словами и речевыми ситуациями. Остаётся позволить ему явить их.
У человека, профессионально пилотирующего большую машину, меняется схема физического тела (конструируемое мозгом внутреннее представление о его структуре и границах, знание о теле, как о едином целом, восприятие расположения, длин и последовательностей звеньев, диапазонов подвижности и степеней свободы) — например, корпус автомобиля воспринимается опытным водителем как телесное продолжение. При этом активация нейронов в премоторной зоне коры головного мозга подтверждается экспериментальными данными.
Подобным же образом у человека, пилотирующего большой текст, меняется схема экзистенциального тела, если мне будет позволено ввести этот громоздкий термин. Процессы, которые я не столько контролирую, сколько просто наблюдаю в моей речи (актуализацию связей, проявление смыслов, формирование структур и так далее), воспринимаются мною как продолжение моей внутренней психической жизни. Или даже как сама внутренняя психическая жизнь как таковая. Моё бытие-в-мире и бытие-в-мире моего текста — одно и то же, я по-паламистски всеприсутствую в моих энергиях (речевых актах) и даже тождествен им.
Поэтому, когда в «оркестре», исполняющем мою речь, появляется новый музыкант, например, ChatGPT, то что-то, безусловно, меняется в количественном отношении (растёт скорость накопления сырого материала и вероятность формирования связей, сокращается необходимое для этого время). Но мало что меняется качественно: ИИ просто включается в «Я-модель» на общих основаниях, попадая в тот же список, где уже давно присутствуют такие акторы-соавторы как социум, язык, нейрометаболизм, микрофлора, грех и т. д.
Сейчас я почти полностью онемел в качестве т. н. «поэта» — то есть я не произвожу текстов, которые бы заявлялись и опознавались как «стихи». Помимо ряда иных причин, я связываю это с тем, что открытые мне поля речевой активности (преимущественно, соцсети) в последние десять лет заметно гомогенизировались. Если ранее ещё возможны были разные режимы говорения: с одной стороны дневниковый, профанная болтовня и пр. — с другой стороны «сакральный», когда торжественно взгромождаешься, «дожидаешься тишины в банкетном зале» и декламируешь Нечто (было хорошо ещё снабдить такую публикацию особым тегом: «тексты», «txt», «нестихи», «версификат» и т. п.) То есть ещё недавно имела место жёсткая стратификация дискурсивных практик по шкале «профанное — сакральное». Теперь же, по моим наблюдениям, все речевые акты слились в сплошное жужжание одновременно во всех регистрах, и этот поток просто свободно струится без предварительной аккумуляции материала. «Красное словцо» не попадает ни в карман, ни в книгу — оно вспыхивает в разговоре и тут же сгорает дотла.
«Храброе словечко чиркнуло об лёд»
В определённом смысле такое беспечное речевое поведение здоровее, чем накопление набросков («не собирайте сокровищ» и т. д.). Сейчас мне всё чаще кажется, что подлинная поэтическая речь — это бесконечно длящаяся джазовая импровизация (бесконечно, потому что субъект письма и говорения не имеет значения: когда один умолкнет, другой продолжит). Поток, который можно в какой-то момент срезать, и этот срез будет называться «стихотворением» — его можно, например, напечатать в журнале или опубликовать в фейсбуке.
И это будет музеификацией, о которой пишет Гройс: «Уже в XIX веке музеи часто сравнивали с кладбищами, а музейных хранителей — с могильщиками. Однако музей является кладбищем в гораздо большей степени, чем любые другие захоронения. Реальные кладбища не выставляют тела умерших на обозрение — наоборот, они скрывают их, как это делали египетские пирамиды. Скрывая трупы, кладбища создают тёмное, непрозрачное, загадочное пространство и тем самым намекают на возможность воскресения. Нам известны истории о призраках и вампирах, покидающих свои могилы, и прочих живых мертвецах, которые по ночам бродят по кладбищам и их окрестностям. Мы смотрели также фильмы о ночи в музее: когда никто на них не смотрит, мёртвые тела произведений искусства получают шанс вновь ожить. Однако днём музей представляет собой пространство окончательной смерти, не оставляющей возможности для воскресения, для возвращения прошлого. Музей институциализирует поистине радикальное, эстетическое, революционное насилие, которое показывает, что прошлое внутренне мертво. Это чисто материалистическая, бесповоротная смерть, и эстетизированный материальный труп выступает как свидетельство невозможности воскресения» [3].
Превращаясь в опубликованное стихотворение, речь изымается из потока коммуникативной прагматики и превращается в экспонат. Бабочка больше не летает, а хранится в энтомологическом ящике, распятая с помощью булавок на кресте своего эстетического совершенства.
Поэтому практика целенаправленного стихосложения (когда стихи именно складывают — в архив, изъяв из речевого потока) мне всё чаще кажется мертвящей: это ритуал, в котором я лично для себя вижу всё меньше смысла. Сейчас, в данной фазе моей биографии, мне кажется, что задачу дефрагментации «я» как потока и оптимизации «я» как процесса гораздо эффективнее решало бы non-fiction-письмо, близкое по своей организции к тому, что выше говорилось о поэтическом высказывании.
В голове пишущего человека живёт сложная система отношений, которая не поддаётся воспроизведению в иерархичном и линейном виде. Делёз и Гваттари написали, или, вернее, разметили свою «Тысячу плато» как текст-ризому, как бесструктурную анти-книгу. Возможно, стихи надо писать как научные статьи, а научные статьи как стихи — в виде многомерной когнитивной карты, не пытаясь схлопнуть её в плоский текстовый файл. И главное, никогда их не заканчивать:
Нестихи
они выглядят как стихи ходят как и крякают как стихи значит, это не стихи
их — сочиняют их посвящают хорошему человеку их печатают в поэтических рубриках снабжают в жж меткой «стихи» пардон, но это не стихи
они не лают, не кусают, в гроб не пускают бедные, у них сто одёжек печень без застёжек у них два оконца два солнца посередине гвоздик но спасибо, надо писать лучше
они обычно про осень, весну, зиму, редко — лето они обычно про детство, юность, зрелость, редко — старость каменеют и трескаются на морозе болтают мягкими согласными на морозе газообразно плачут, когда их щекочет старость бегают за рифмой как собака за небывалой палкой
они трутся о любовь, жизнь и (или) смерть (как говорил поэт Иван Новицкий до своего бесследного исчезновения в пятерне трёх вокзалов, Серёжа Соколовский хорошо написал об этом прозой) они такие складные, мурашки дыбом их замучишься править пусть врут всё как есть обычно приходится иметь дело с сочетанной травмой
они ходят и ходят моешь за ними, моешь они мы их душили-душили вы не подумайте, они совсем не такие это вам не сюда, а этажом выше
Янина Вишневская [2]
Я, «Тысячу плато» прочтя до середины, вдруг очутился в сумрачном лесу
ИИ — инвазивная интродукция?
Последствия распространения систем искусственного интеллекта могут быть разными. Например, Росс Андерсон, член Королевской инженерной академии и профессор персональной кафедры безопасности и компьютерной лаборатории Кембриджского университета, один из самых известных отраслевых консультантов в области инфобезопасности, предупреждает об интеллектуальном вырождении, которое может быть вызвано новыми поколениями больших языковых моделей. До 2023 года бо́льшая часть текстов в интернете была написана людьми, и они использовались для обучения нейросетей. Сейчас всё больше и больше контента производят большие языковые модели, и качество общедоступного текста может ухудшаться. Явление, известное как «коллапс модели», может привести к кумулятивному засорению интернета некачественной или вовсе бессмысленной информацией, которую будут потреблять и люди, и системы ИИ, и результатом станет стремительная интеллектуальная деградация культуры в целом.
То есть может произойти то, что в биологии называется инвазивной интродукцией, когда вид, не встречающийся в естественных условиях на определенной территории, преднамеренно или случайно заносится туда человеком, и это имеет разрушительные последствия для местной экосистемы, потенциально приводя к исчезновению местных видов.
Самый известный пример — европейский кролик, завезённый в XIX веке в Австралию для спортивной охоты. Из-за отсутствия естественных хищников популяция кроликов разрослась, и они превратились во вредителей, причинив значительный ущерб австралийским экосистемам за счёт конкуренции с местными видами за ресурсы. Несмотря на различные методы борьбы, включая искусственное внедрение заболеваний, для экологии Австралии европейские кролики всё ещё представляют серьёзную проблему.
ИИ в литературном ландшафте
Но интродуцированные виды далеко не всегда вредны. Классическим примером полезного интродуцированного вида является медоносная пчела. Будучи родом из Европы, Азии и Африки, медоносные пчёлы были завезены в Северную Америку в XVII веке и с тех пор стали жизненно важными опылителями для множества местных растений, включая многие сельскохозяйственные культуры, а также производителями мёда, который вкусен, полезен и рентабелен.
В общем, как обычно после изобретения серьёзной технологии, человек опять стоит на перекрёстке посреди пустыни, вглядываясь в загадочную фигуру, выходящую из знойного марева, и силится понять: он блюзмен Роберт Джонсон, повстречавший дьявола, — или же он пророк Исайя, настигнутый шестикрылым серафимом.
Oooo ooee eeee, boy dark goin' catch me here и сердце трепетное вынул
Библиография
- Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс, 1989.
- Вишневская, Я. Лучшие компьютерные игры: Стихи. — Ozolnieki: Literature Without Borders, 2019.
- Гройс, Б. В потоке. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
- Делёз, Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
- Кинг, С. Тёмная половина. — М.: АСТ, 2014.
- Метцингер, Т. Наука о мозге и миф о своём Я. Тоннель эго. — М.: АСТ, 2017.
- Пушкин, А. Собрание сочинений в десяти томах. Том 2. Стихотворения 1823–1836 — М.: Государственное издательство Художественной Литературы, 1959.
- Социодиггер. Том 4. Выпуск 5–6 (26). Человек и/или ChatGPT. — 2023.
- Тригг, Д. Нечто: феноменология ужаса. — Пермь: Гиле Пресс, 2017.
- Феофан Затворник, святитель Вышенский. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (в 2 томах). — М.: Правило веры, 2018.
- Юнг, К. Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство / Об отношении аналитической психологии к поэзии. — М.: : Рефл-бук, Ваклер, 1998.
- Byrne & Whiten, A. Machiavellian intelligence. — Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Metzinger, T. Are you sleepwalking now? — 2018