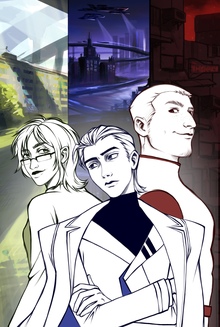1. Сновидение: катабазис, анабазис и онтогенезис
Человек чувствует себя пленником стихии земли, с завистью наблюдая за искрами, поднимающимся над костром, за птицами, населяющими воздух, за рыбами, которые, может быть, видели самого Ктулху. При должной сноровке ныряльщик способен на автономное путешествие в морские пучины, но, если закон Архимеда ещё можно преодолеть (например, привязав к себе что-то тяжёлое), то земное притяжение всегда казалось непобедимым без привлечения сложной и ненадёжной машинерии.




Сон о погружении в морские глубины интерпретируется в различных мифологиях и психоаналитических традициях как образ катабазиса (от др.-греч. κατάβασις), нисходящего путешествия вглубь самого себя или в бессознательное, часто знаменующего начало трансформационного процесса.
Этот спуск рассматривается как этап инициации, как болезненную конфронтацию со своими скрытыми аспектами. Соответствующий конфликт разрешается через интеграцию этих аспектов, что предшествует трансформации, воскресению и вознесению. Станислав Гроф [3] интерпретировал бы это как проваливание из состояния всеединства и покоя первой перинатальной матрицы в захваченность, тревогу и давление, которое плод испытывает, когда начинаются схватки, — и затем мучительное клаустрофобическое стеснение, связанное с продвижением по родовому каналу и всегда содержащее предвосхищение близкого освобождения. В делёзианском контексте эта последовательность событий может описываться как «становление», (онейро)навигация по ризоматическим совокупностям идентичности и опыта.
Сны о полётах (полёты во сне), таким образом, можно интерпретировать как нечто дополняющее и увенчивающее катабатический символизм приземлённости мотивами эйфорического освобождения, восхождения (ἀνάβασις), побега из небытия в бытие, то есть онтогенезиса, трансценденции и индивидуации — того, что Делёз описывал как десубъективацию, отрыв от самотождественности, что позволяет человеку стать причастным безличному полю «абсолютной имманентности», которую Делёз также называет «жизнью» (une vie) [4].