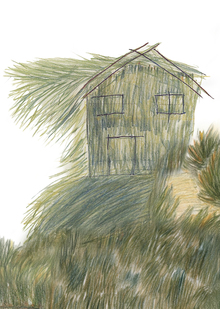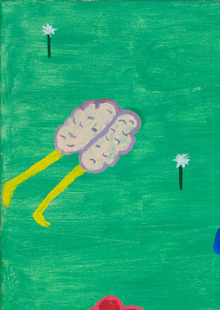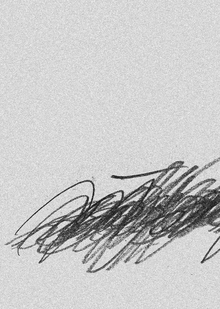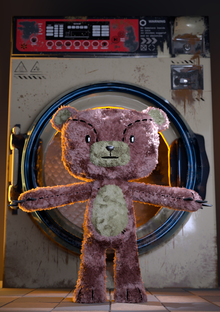В ситуации исторического перелома, серьезного кризиса и социального потрясения, колоссальное количество людей переживают состояние внутреннего сопротивления происходящим в мире событиям. Для художников, чья деятельность так или иначе отражает время, реагирует на текущий момент, становится невозможным использовать старые методы. Запускается процесс определения новых целей и поиска методов их достижения как неминуемое следствие разрушения прежней системы миропорядка. Именно в этот момент возникает необходимость обращения к искусству как к практическому инструменту непосредственного изменения окружающей действительности. Авторы стремятся не просто продуцировать контент или создавать нагромождения из концепций и образов, привлекая внимание к проблеме лишь косвенно, они хотят, чтобы их действия были действительно полезными, значимыми. Понимая, что в одиночку, вне институций, художник обладает лишь ограниченным спектром возможностей, он стремится к коллективности и взаимопомощи.
В центре внимания настоящей исследовательской работы находятся коллективные художественные практики, в которых люди объединяются в партиципаторном\перформативном действии в стремлении сделать мир лучше.
Исследование состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе «БЫТЬ ВМЕСТЕ» рассмотрены художественные проекты, основанные на коллективном действии, объединяющем людей, налаживающем связи и коммуникацию. Вторая глава «БЫТЬ ВИДИМЫМИ И УСЛЫШАННЫМИ» посвящена проектам, в которых художники создают ситуацию для транслирования своих переживаний и историй. «СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ», третья глава, состоит из проектов, где коллективное художественное действие оказывается неотделимым от действия активистского, направленного на улучшения мира вокруг.
Перформативность и партиципаторность кажутся наиболее подходящими методами в достижении поставленных целей. Именно подобные действия предполагают проживание непосредственного опыта, ответственность за последствия. Это позволяет преодолеть привычную пассивную потребительскую позицию. Оказавшись вовлеченным в подобные практики, человек становится видимым. Когда в совместном процессе важен голос каждого, каждое решение и действие имеет вклад в общую деятельность — потеряться в массе и спрятаться за кем-то становится невозможно. Основываясь на конструировании со-бытия, этот метод дает надежду на большую вероятность успеха в стремлении к позитивным переменам.
Исторический контекст
Партиципаторные практики, иными словами, практики соучастия, активной вовлеченности и взаимодействия. Если говорить о предшествующем им историческом контексте, метод провокативного вовлечения зрителя в художественный процесс, превращения его в соучастника использовался еще в начале 20 века в спектаклях Всеволода Мейерхольда и в практиках дадаистов. Также партиципация лежала в основе хэппенингов, развитие действия и его исход напрямую зависели от зрительских решений и непосредственного участия. Яркий пример здесь — деятельность группы Флюксус. Идеи искусства взаимодействия развил Николя Буррио (1), определив главные принципы «реляционной эстетики» — поиск моделей взаимодействия внутри реальности вместо производства объектов, создание пространств для сотрудничества и социального обмена. В последнее десятилетие его концепция активно подвергается критике.
Так, критическим оппонентом становится Клер Бишоп, автор термина «партиципаторное искусство». В своей работе «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства» она анализирует и систематизирует практики взаимодействия (2). Роман Осминкин пишет о необходимости сдвига, перехода к постпартиципаторному искусству.
«…Переход искусства к непосредственному производству новых форм жизни сегодня сделали возможными, в первую очередь, современные технологии, новые медиа и социальные сети, которые вкупе со все возрастающим количеством политических и социальных групп активистов, подчас радикально задействующих в своей работе концептуальные и творческие компетенции искусства, могут привести к накоплению той самой „критической массы“, позволяющей преодолеть противоречия партиципаторного искусства.» (3)
Рис. 1 — Йоко Оно. «Отрежь кусок», 1967
Споры о том, должно ли искусство быть полезным, были всегда. «Изящные же искусства — это способ представления, который сам по себе целесообразен и хотя без цели, но все же содействует культуре способностей души для общения между людьми» — писал Иммануил Кант. (4) Классическая живопись, графика, литература и театр рассматриваются с точки зрения дидактики, пользы, как медиумы, способные воспитывать умы, менять человека к лучшему. Однако искусство как инструмент непосредственного вмешательства, перемен к лучшему, возникает в ситуациях исторических переломов.
«Понятие, выбранное для описания открытых художественных практик, возникает в момент явной нехватки того, что можно назвать социальным проектом — коллективного политического горизонта или цели.» (5)
Для обозначения фокуса подобных значимых сдвигов в сторону социального и политического, авторы сборника «Art of social change» выделяют 4 кризисных периода: 1871 (год Парижской Коммуны), 1917 (революции в России), 1968 (политическая нестабильность в нескольких странах), 1989 (начало конца советской империи) (6). На фоне первого потрясения возрастает необходимости определения роли искусства как политической активности, эти идеи находят развитие у Гюстава Курбе и Уильяма Морриса.
Со второй датой связаны авангардные течения с заявлением о конце искусства, художники России строят новое искусство, соответствующее «новому миру», ищущие новые его формы. Третий период характеризуется вовлечением художников в борьба за эмансипацию (антиколониальная борьба, гражданские права и за права женщин). Снова кажутся устаревшие подходы и методы в искусстве. Так, ситуационисты утверждают необходимость растворения искусства в реальности, художественные практики рассматриваются как производство ситуаций и жизнетворчество. Активная вовлеченность участника здесь задумывалась как способ борьбы с «обществом спектакля» (7), с пассивностью и с разобщенностью. Город воспринимался как проект для преобразований, переустройства пространства через активное вмешательство в среду.
Важно упомянуть Йозефа Бойса, чьи идеи и теоретические концепции, связанные с социальной и политической ролью искусства, оказали в будущем огромное влияние на многих деятелей искусства. Бойс говорил о том, что каждый человек — художник, а вся жизнь — тотальное произведение искусства, в которое каждый может внести свой вклад. Из этой идеи родился термин «социальная скульптура», деятельность человека, направленная на придание структуры обществу или окружающему миру. Художник верил в потенциал искусства для совершения трансформаций и значимых перемен. Последний период, ближе к 90 м годам, связан с распространяющейся ориентированностью на социальный контекст.
Рис. 2 — Лекция Йозефа Бойса в Чикагском институте искусств в 1974 году
В исследовании рассмотрены проекты, начиная с третьего исторического периода перемен в мире и искусстве (1968), однако в основном внимание уделено проектам после четвертого переломного момента (1989). Так, в работе представлен анализ того, как развивались идеи социальной скульптуры в последние 20-30 лет.
О заботе
В последнее десятилетие все чаще теоретики, художники и активисты, работающие с социально ангажированным искусством, обращаются к термину «практики заботы». Этот фундамент становится все более важной парадигмой в их усилиях по трансформации повседневной жизни. Еще в 1969 году в своём манифесте (8) Мирле Ладерман Юкелес говорит о двух системах: о системе развития и обслуживания. К первой относятся индивидуальность, стремление к новому, к прогрессу, достижениям, второй же присущи оберегание, поддержание, защита и совершенствование того, что уже есть. Художница в своих практиках рассматривает позицию человека, который почти незаметно, буднично поддерживает мир в равновесии, спокойно и чутко проявляя заботу по отношению к нему.
Рис. 3, 4 — Мирле Ладерман Юкелес, перформанс «Мытьё. Лестница. Уборка: Снаружи» 1973
Важная созвучная идея прослеживается у писательницы Урсулы Ле Гуинн в эссе 1986 года «Литературная теория хозяйственной сумки» (9). Ле Гуинн о производстве культуры в целом и критикует позицию завоевателя, рвения к агрессивным изменениям реальности, волевым единоличным героическим свершениям. Так, произведение становится подобно стреле, резкой, нацеленной на конкретную цель. Взамен этой позиции она предлагает иную, сравнивая любое произведение с сумкой, в которую мы можем трепетно собирать вещи, хранить их, беречь и заботиться о них. В таком произведении нет места герою, все участники действия становятся равноправными, одинаково значимыми для происходящего. Именно здесь, на её взгляд, таится потенциал для гармоничного творчества.
Куратор, критик и исследовательница иЛиана Фокианаки в эссе 2020 года «Бюро заботы. Вводные заметки о заботе и беззаботности» говорит о потребности общества в коллективной междисциплинарной практике заботы не только для других, но и вместе с другими. Фокианаки описывает проблему ассоциирования заботы с обязанностью, приписываемой определенному гендеру в сложившихся патриархальных социальных структурах, указывает на необходимость отлучения от подобных навязанных извне привычек через общее дело.
«…политика и этика заботы — это не столько груз ответственности или идеалистический и „благотворительный“ акт, делающий человека лучше, сколько совместная радость личностная реализация.» (10)
Однако, говоря о заботе, важно помнить о амбивалентности этого слова. Слово «забота» означает теплое действие, направленное на чье-то благополучие. Одновременно с этим «заботы» — хлопоты, проблемы, дела, вызывающие тревогу и беспокойство. Так, мы постоянно находимся в замкнутом круге между заботами и проявлением заботы. Переживания вызывают в нас тягу проявить участие, помочь, но уже после совершенного действия мы снова волнуемся о том, эффективно ли было совершенное действие, насколько долговечным окажется вклад. Поэтому так важно постоянно анализировать и систематизировать практики, о которых пойдет речь в данном исследовании.
Необходимо развивать идеи заботы как метода, закладывать их в основу художественных проектов, стремящихся к улучшениям мира.
Подходить к переменам нужно бережно и осмысленно, отказавшись от громких заявлений, революционных агрессивных методов, героических жестов, а также исходя не из единоличных суждений и представлений о том, что такое «польза», а исследуя и учитывая значение этого понятия для каждого случая, для каждого локального сообщества.
В исследование не вошли проекты, подсвечивающие проблему, но не предлагающие непосредственного решения; проекты, рассказывающие истории людей через посредника; проекты, так или иначе навязывающие людям изменения без обратной связи; проекты заигрывающие с или иронизирующие над идентичностью людей. Также в тексте не были рассмотрены акционистские, активистские практики, связанные с протестами, демонстрациями и громкими заявлениями. Несмотря на изначально заложенную цель принести благие перемены, во многих случаях такие действия оказываются не просто неэффективными, но и опасными или вовсе невозможными для реализации. В иных же контекстах (например, США), подобные массовые демонстрации дерадикализированы, воспринимаются рутинно и обыденно, а потому не оказывают желаемого эффекта.
Так, в визуальном исследовании внимание сфокусировано на различных эмансипирующих аспектах коллективного взаимодействия, где произведение является не только протестом, но и инструментом для непосредственных преобразований.
Исследование предоставляет обзор на проекты, в которых оказываются смежными или тесно переплетаются несколько областей: искусство, философия, социология, политика, образование… Дать им четкое однозначное определение и оценку оказывается действительно сложной задачей (»… такие проекты являются искусством и чем-то ещё…» (11). Однако именно смежность этих областей расширяет возможности людей, занимающимися попытками изменить сложившееся положение, в котором государство проявляет себя неэффективно.